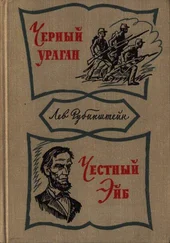Потом в комнату вносилась, допустим, индейка. Вносилась она почти столь же торжественно, как знамя дружины в актовый зал во время пионерской линейки. Но вносилась она не под горн и барабан, а под традиционный одобрительно-восхищенный вокализ “у-у-у-у-у!”, исполняемый сводным хором гостей. В хоре был и солист, играющий роль шута-скептика и не очень искренне восклицающий: “Предупреждать надо было! Не поместится”. Помещалось тем не менее.
Потом, как уже было сказано, началась неизбежная юность. И душа рвалась прочь от отсталого ритуала в сторону мятежной альтернативы. Альтернатива заключалась, как правило, в дерзновенном отказе от салата оливье и трудоемкого холодца в пользу сыра сулугуни и кое-как вымытых пучков кавказской травы с Черемушкинского рынка. Ну, еще антрекоты из кулинарии. Ради того чтобы употребление этого чуда прогресса не было чревато серьезными стоматологическими последствиями, антрекоты перед жаркой надо было лупить смертным боем, вкладывая в этот очистительный процесс всю накопившуюся злобу на постылый советский мир, включающий и мир отчего дома.
А самое главное и судьбоносное – это то, что прямо посреди стола утвердилась во всем своем революционном бесстыдстве бутылка водки.
И так далее. И неуклонно исчезающая из нашего быта привычная, как пленумы ЦК, провизия. И медленное привыкание к совсем непривычным вещам вроде бутылки джина или коробки английского чая, присланным тебе твоим двоюродным братом с оказией из Бостона. И аскетические посиделки времен поздней перестройки, изредка украшаемые неожиданными подарками судьбы (“Приезжай, у меня есть четвертинка”. – “Ура! Еду. А у меня есть триста граммов сыра”).
И так до нынешних странных времен, когда несколько эпох домашних застолий стремительно уходят даже не в историческую, а в какую-то археологическую перспективу. И звонок по мобильному телефону: “У меня завтра день рождения. Приходи в «Маяк»”. И поиски стола подальше от динамика. И каждый ест что-то свое. И каждый пьет что-то свое. И каждый говорит что-то свое. И в общем неоформленном гуле слышится чья-то досада на то, что завтра надо переться на родственный юбилей. Досада, смешанная со стыдным предвкушением человеческой еды и горько-сладкого прикосновения к собственному детству.
Заголовок – это не только цитата из Пастернака, поэта, удивительным образом умевшего профильтровывать глобальные исторические события сквозь груду кое-как накиданных мелочей и пустяков субъективного чувственного опыта. Грозная история не замусоривалась и не облеплялась частными биографическими наслоениями, а выходила, напротив, очистившейся от безысходной пошлости и кислой скуки учебников и брошюр. Выходила живой, дышащей, то есть такой, какой и должна быть история.
Это не только цитата, но и бесстрастная констатация того биографического факта, что в тот день, о котором я вспоминаю, мне было именно четырнадцать лет – чувствительнейший, надо сказать, возраст.
Я помню этот день во всех мельчайших и подчас довольно причудливых подробностях.
Во-первых, была фантастически прекрасная весенняя погода – теплая, сухая и ослепительно солнечная. Если я ничего не путаю, то именно в этот день я впервые в том году пошел в школу без пальто – в одной лишь школьной форме и даже, страшно подумать, без галош.
У школьных ворот я встретил друга Шухова, большого выдумщика. Он сказал: “Погодка-то, а?” Мы с ним были знакомы довольно близко, поэтому продолжения не потребовалось. “Да, – ответил я тоскливо, – хорошо бы как-нибудь это, того… Да только как?” Он тоже неплохо знал меня, поэтому смысл моей косноязычной реплики уловил с ходу. “А я сейчас заболею и отпрошусь”, – сказал он не без хвастливости. “Это как это?” Его круглые румяные щеки и веселый, не без шкодливости взгляд с болезненным состоянием его организма увязывались плоховато. “Сейчас покажу, – сказал он и вынул из портфеля желтоватый брикетик мыла “Банного”. – Вот смотри – двоюродный брательник научил”. И он, послюнив мизинец, густо намылил его, засунул поглубже в нос и энергично в нем повертел. Потом он проделал то же самое и во второй ноздре. “Теперь глаза у меня будут красные, и я буду здорово чихать, вот увидишь”.
Мы вошли в класс и сели. Вошла математичка Зоя Корниловна, ужасная, между прочим, стерва. Сидевший слева от меня Шухов напряженно ждал результата, нетерпеливо подергивая носом. “Глаза покраснели?” – спросил он меня минут через десять – пятнадцать, шепотом, разумеется. Я посмотрел. “Да вроде да”, – неуверенно сказал я. “Ну ладно”, – решительно, но и с некоторой обреченностью прошептал он и поднял руку. “В чем дело, Шухов?” – слегка раздраженно спросила Зоя Корниловна, которая знала Шухова хотя и не так близко, как я, но все же знала. “Я это… плохо себя чувствую”, – по возможности умирающим голосом сказал он и в этот же миг, словно по заказу, оглушительно чихнул.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Лев Рубинштейн Что слышно [сборник] обложка книги](/books/422824/lev-rubinshtejn-chto-slyshno-sbornik-cover.webp)