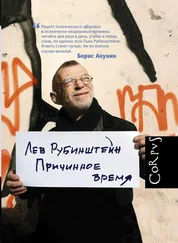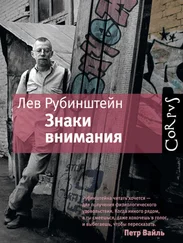В принципе, эта логика поведения знакома мне еще с коммунального детства. Поссориться с соседом и с досады дать втихаря поджопник его маленькому сыну. Да и своего заодно пнуть, чтобы не играл с ним во дворе.
В наши дни мы читаем: “Около 50 российских вузов расторгли договоры о сотрудничестве с турецкими университетами и институтами”.
Или: “В Москве закрылся Российско-турецкий научный центр, располагавшийся в Библиотеке иностранной литературы”.
Но это, конечно, не вчера началось. Это история давняя. В начале Первой мировой войны, например, “Петербург стал Петроградом в незабываемый тот час”. В конце сороковых годов, в годы “борьбы с космополитизмом и низкопоклонством”, “французская” булка стала “городской”, а знаменитое кафе на Невском проспекте, много лет известное как “Норд”, стало “Севером”.
А еще я запомнил один из тех дней ранней весны 69-го года, когда случился пограничный конфликт на острове Даманский, когда все вокруг говорили о том, что вот-вот начнется война с Китаем.
Все годы моего детства и ранней юности на крыше гостиницы “Пекин” красовались каждые пару минут сменяющие друга две надписи: “Пекин” по-русски и “Пекин” по-китайски.
В тот день, о котором я рассказываю, я шел мимо гостиницы и вдруг обнаружил, что китайская надпись напрочь исчезла. И мне вдруг стало по-настоящему тревожно.
Теперь – на повестке дня слово “Турция” и все производные от него.
Я безо всякого, как мне кажется, особого преувеличения легко представляю себе такую маленькую мизансцену из какой-нибудь очередной исключительно вдумчивой телевизионной телеатаки на человеческий мозг.
Проницательнейший ведущий с тонкой улыбкой и с интонациями провинциального гипнотизера, допустим, говорит:
В Соединенных Штатах только что отпраздновали День благодарения. Как известно, в этот день в каждой американской семье готовят индейку. А как по-английски называется индейка? Правильно: она называется Turkey. Случайность? Совпадение? Возможно, что и так. Но подумать, согласитесь, есть о чем.
В общем, пока что на марше слово “Турция”. Турецкий марш буквально.
Кстати, в наши дни разные люди беспрерывно шутят на предмет возможного запрета на исполнение “Турецкого марша” евросоюзовского композитора В. А. Моцарта.
А уж такая ли это шутка, если вспомнить, как в начале 80-х, в разгар “разгула” польской “Солидарности”, из радиоточек, висевших на всех кухонных стенах, в одночасье исчез “Полонез” Огинского, который до того момента чуть ли не ежедневно транслировался в “концертах по заявкам радиослушателей” и прочих “Рабочих полднях”.
В наши дни шуток, построенных на диких преувеличениях, практически не бывает. То есть они бывают, но они уже не шутки. Да и такое понятие, как “гротеск”, уже ничего толком не означает.
Да, смех в наши дни стремительно теряет свои инструментальные возможности. Он фатально лишается своей традиционной способности влиять на ход событий и на состояние умов.
Впрочем, вопрос о том, можно шутить или нельзя, надо или не надо, – вопрос праздный, вопрос риторический. Столь же праздный и риторический, как вопрос о том, можно ли и нужно ли отключить одну из важнейших функций организма.
Способность к смеховой реакции – это едва ли не последнее, что мы имеем право терять.
Потому что это не только проверенная жизнью защитная реакция от мощного напора зловещего абсурда происходящего вокруг нас, не только надежный измеритель сохранившихся в нас нравственных и эстетических критериев, но и универсальный способ переговариваться между собой или хотя бы посылать друг другу позывные посреди мутных болотных испарений так называемого информационного пространства.
Способность к смеху – это утвердительный ответ каждого на отчаянный вопрос: “Эй! Есть тут кто живой?” Потому что смех – это жизнь и есть.
И давайте не будем забывать о маленькой девочке Алисе, сумевшей в облепившей ее со всех сторон фантасмагории, разрушающей все связи между явлениями, понятиями и категориями нормального человеческого мира, сохранить ясность рассудка и открытое отношение к жизни.
И давайте помнить, что сны не длятся вечно. В противном случае они называются совсем по-другому.
И мы, разумеется, как и она, однажды проснемся, и каждый скажет: “Какой удивительный сон приснился мне”.
Мой институтский товарищ ухаживал некоторое время за одной девушкой, нашей общей однокурсницей. Ухаживал, так сказать, всерьез. Настолько всерьез, что бывал у нее дома и даже был познакомлен с ее родителями. Забегая вперед, скажу, что счастливого брака, да и никакого другого брака не получилось. Впрочем, к тому, что я хочу рассказать, это не имеет отношения.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Лев Рубинштейн Что слышно [сборник] обложка книги](/books/422824/lev-rubinshtejn-chto-slyshno-sbornik-cover.webp)