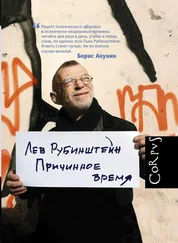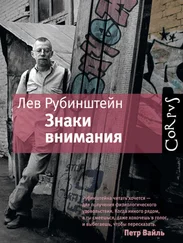Все это придумано, конечно, не сегодня. И даже не вчера. Это давняя история и давняя традиция. Можно даже сказать, традиционная ценность. Самый яркий, запомнившийся нескольким поколениям образец – это про “наших разведчиков” и “иностранных шпионов”. Но не только. Государства, существовавшие на бабки ЦК КПСС и напиханные советским оружием, назывались “наши друзья”. А друзья, например, Америки назывались – как и теперь, между прочим, – “марионетками”.
В соответствии и с этим “суверенным” толковым словарем совершенно логичными выглядят рассуждения о том, что мировое сообщество (США и его марионетки) ведет разнузданную кампанию против России, ведущей самостоятельную и, главное, эффективную внешнюю и внутреннюю политику, что конечно же встало поперек горла… ну, и так далее.
Кроме бинарной оппозиции “приятное – неприятное”, весьма важной для понимания многих явлений представляется оппозиция “наше – не наше”. Точнее говоря, представление, согласно которому все происходящее в мире происходит либо “за нас”, либо “против нас”. Объяснять, что в мире кроме “нас” происходит, вообще-то говоря, очень много всего важного, интересного, тревожного и насущного, довольно бессмысленно.
Такого рода болезненный эгоцентризм бывает свойственен детям. Но и не только. Некоторым взрослым тоже. Была, например, у нас во времена моего коммунального детства такая Вера Сергеевна, соседка. Она была уверена, что все вокруг непременно имело какое-то отношение непосредственно к ней. Например, она, помню, говорила: “Этот Славка с верхнего этажа нарочно заводит такую громкую музыку, чтобы я не смогла заснуть. Зачем? Ну как зачем? Это он завидует, что я купила новый ковер”.
Откуда бы этому ни о чем не подозревавшему Славке знать что-либо про ее новый ковер, да и про нее саму, никто ее даже не спрашивал. Да и зачем?
Поверьте: ни за что не стал бы вступать на эту скользкую дорожку, от вековой заезженности отполированную до зеркального блеска. Никогда не стал бы даже на минутку заглядывать в это надышанное многими поколениями сангвинических пошляков пространство, где постоянно звучит гулкое эхо петушиного подросткового гогота. Этот радостный идиотский гогот всякий раз звучит в наших ушах, когда мы слышим что-либо шутейное, основанное на мерцании двух значений слова “яйца”. Впрочем, игровые манипуляции этим словом даже и в одном из его значений – понятно в каком – тоже воздуха не озонируют.
Ни за что бы не стал, честное слово.
Но кто-то из моих друзей зачем-то прислал мне ссылку на фейсбучные размышления одного современного писателя (довольно известного, кстати), в которых он, писатель, среди прочего сообщил, что склонен делить писателей на тех, кто “с яйцами”, и тех, кто без.
Понятно, что под “яйцами” в данном случае понимается не анатомическая деталь, присущая самцу Homo sapiens. Понятно, что в данном случае речь идет о метафоре. Причем о метафоре настолько затертой и стилистически скомпрометированной, что даже удивительно, что ее на голубом глазу берет на вооружение не кто-нибудь, а именно литератор, которому чувство слова, чувство языка и стиля вроде как положены по штату. Но нет. Яйца.
Когда про писателя или художника говорят: “Да, он глуповат, пошловат и агрессивно невежественен, но талантлив, черт!”, или: “Он, конечно, как человек – говно, но какие зато рассказы пишет!”, или: “Его книги умнее его”, я не очень это понимаю. Когда примерно такое же говорят про оперного певца, спортсмена, балерину, краснодеревщика или циркового атлета, жонглирующего гирями, я понимаю. А про писателя – нет.
Потому что искусства делятся на “исполнительские” и “авторские”.
Писатель – это автор. А стало быть, в любом своем публичном высказывании, в любом культурном или социальном жесте он выступает не только как частное лицо, но и как автор, несущий на себе дополнительный груз ответственности за слова, жесты и поступки.
Изобразительным даром далеко не исчерпывается все то, что в совокупности можно обозначить как “авторство”.
Писатель не только изготовитель складных текстов, он и изготовитель собственной биографии, творимой им в соавторстве с объективными или субъективными жизненными и историческими обстоятельствами.
Мне кажется неполным, неокончательным тот авторский текст – по крайней мере текст того автора, кто существует здесь и сейчас, кто не поставил еще последнюю точку в своей земной биографии, – тот текст, который выдернут из общего контекста социального или эстетического авторского поведения, то есть из всего того, что кратко можно обозначить словом “репутация”.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Лев Рубинштейн Что слышно [сборник] обложка книги](/books/422824/lev-rubinshtejn-chto-slyshno-sbornik-cover.webp)