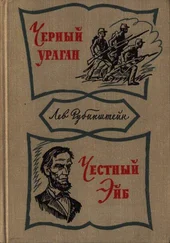Любое высказывание, любое коммуникативное поведение, лишенное признаков рефлексии, является необычайно скоропортящимся продуктом. Оно превращается в самопародию практически мгновенно.
Смешное и пародийное далеко не всегда невинно, далеко не всегда безопасно.
Вот, например, необычайно расплодившиеся в наши дни носители имперско-воинственного дискурса в обычной, в нормальной исторической ситуации были бы просто смешны. В ситуации же всеобщей пороховой взвинченности они еще и реально опасны.
Пытаться разоблачать содержательную или фактологическую составляющую их риторики – занятие неблагодарное и едва ли не более бессмысленное, чем сама эта риторика.
И можно, и нужно разоблачать, подвергать деконструкции их речевое поведение, их интонации, их пластику, выражения их лиц, их жестикуляцию. Ибо все это в совокупности и во взаимодействии собственно и есть содержание. А другого и нет, даже не ищите.
Там, где звериная серьезность, там же и ее близкая родственница, которую принято называть “пошлостью”.
Кто-то из умных людей заметил, что пошлость по прошествии времени становится стилем. Мне нравится эта мысль, и я ее вполне разделяю. Но я все же к ней, к этой мысли, кое-что добавил бы.
Да, пошлость рано или поздно становится стилем. Но только в том случае, если по дороге к “стилю” она не успеет преобразоваться в “кровь и почву”, в “обострение классовой борьбы”, в “Русский мир”, в смерть, в разрушение, в войну.
Именно поэтому столь насущен хотя бы приблизительный общественный договор, хоть как-то регулирующий общественные представления о стиле и о пошлости и, главное, об их фундаментальном различии.
Да только откуда бы этому договору взяться, если многие из тех, кому просто по профессиональной обязанности положено распознавать эти границы, с детским щенячьим восторгом ныряют в мутную стихию кромешной пошлости.
Знаю, знаю – кто-то непременно спросит: “А с чего это вы решили, что именно вы вправе определять, что есть пошлость, а что нет?”
Согласен, это аргумент неоспоримый. Я не шучу.
Потому что я действительно не знаю, чем на это ответить. Ну, разве что словами Чехова, который в одном из своих писем, не помню, кому адресованному и по какому поводу, написал: “Я знаю, что Шекспир писал лучше, чем Златовратский, но я не могу этого доказать”.
И я тоже не могу доказать, что “Шекспир писал лучше, чем Златовратский”, хотя я это тоже твердо знаю. И уже хотя бы поэтому разговор должен продолжаться.
В пошлости изначально заложен заряд агрессии.
Это не та игровая, условная агрессия, которая бывает свойственна некоторым проявлениям художественной деятельности. Это другая агрессия – буквальная, требующая выхода за границы стиля, жанра, художественного метода, за границы академической, да и любой другой дискуссии.
Пошлость не терпит не только соперничества, но и любой критики по отношению к себе, потому что всегда претендует на окончательную “истинность”. Она всегда ищет союза с силой, с властью, всегда ищет их покровительства и, как правило, их находит.
Лидия Яковлевна Гинзбург, одна из умнейших женщин XX века, писала в своей записной книжке: “Одно из самых основных и самых гибельных свойств пошлости – безответственность. Пошлость не нуждается в обоснованиях, в связи, в выводах из посылок и не понимает того, что поступок есть выбор и тем самым отказ от другого”.
А серьезность, продолжим мы, – не “звериная”, а человеческая, – это прежде всего именно ответственность. Хоть бытовая, хоть интеллектуальная, хоть социальная, хоть какая.
А для пишущего и говорящего человека это прежде всего ответственность перед языком. Это ответственность за слова, за их значения и за их порядок в предложении.
Ну, и ответственность перед историей само собой.
И я, как хочется мне надеяться, достаточно хорошо понимаю, как важно быть серьезным.
Абсолютизация частного опыта иногда искажает образ эпохи до полной неузнаваемости. Но и игнорирование этого частного опыта искажает его в неменьшей степени.
Невозможно жить с постоянным осознанием, что ты живешь “в истории”. Нельзя всегда жить в истории, игнорируя поучительные уроки летучей повседневности.
Но невозможно существовать исключительно в повседневности, не обращая внимания на то, что ты находишься все же внутри истории, ожидающей от тебя осмысления и оценки, пусть и субъективной.
Если того или иного свидетеля той или иной эпохи ограбили однажды на улице, то имеет ли он полное основание утверждать, что в “те годы нельзя было спокойно пройти по улице, потому что людей тогда грабили прямо посреди бела дня”? Если в позднесоветские годы у кого-то водился кореш-мясник из Смоленского гастронома, вправе ли он утверждать, что тогда “у всех все было, и не надо мне тут ля-ля”?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Лев Рубинштейн Что слышно [сборник] обложка книги](/books/422824/lev-rubinshtejn-chto-slyshno-sbornik-cover.webp)