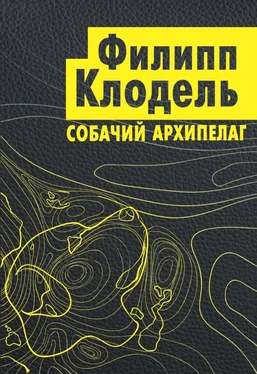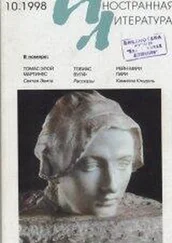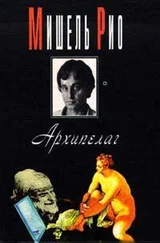XXI
В вязкой тишине минут, которые за этим последовали, стали возникать образы. Во-первых, сцена, о которой только что рассказала Мила, а во-вторых, та, о которой она не рассказывала, поскольку ее об этом не попросили. Последнее слово, произнесенное девочкой, содержало в себе целый мир, замешенный на ужасе и низости. В этом слове, словно в сосуде, вместились все те позорные, презренные действия, которые воображение каждого отныне видело четко, как на экране, с обескураживающей точностью. Никому не понадобилось ничего прибавлять к этому слову.
Учитель больше не сдерживал слез. Он плакал, вжавшись в стул, и, пока продолжалась очная ставка, молчал. Даже когда Комиссар предоставил ему слово и попросил подтвердить или опровергнуть то, что Мила поведала об их частых встречах, о том, как он ее насиловал, в каком помещении, при каких обстоятельствах и каким именно образом, он больше ни разу не нарушил тишину. Учитель продолжал плакать, не сводя глаз с девочки, которую, кажется, это нисколько не смущало и которая, спокойно выдерживая его заплаканный взгляд, продолжала раскручивать свой безжалостный рассказ, тоже плача при этом, хотя обильные слезы никак не влияли на удивительную ясность и твердость ее голоса.
– Она будто находилась в трансе, – рассказывал позже Доктор Старухе, которая зашла к нему и попросила объяснить ей произошедшее. По словам Доктора, девочка походила на одержимую, вместо которой говорило что-то или кто-то, находившееся у нее внутри. – К несчастью, я материалист до мозга костей и не верю ни в одну из форм трансцендентного, но, ей-богу, это впечатляло. Чувствовалось, что фразы, которые она произносила, давались ей с огромным трудом, истощали ее полностью, казалось, она вот-вот упадет в обморок.
Старуха молчала. Доктор поставил перед ней рюмку с ликером, но она к ней не притронулась. Пока он домучивал свою сигару, женщина осмысливала все сказанное им. Уже стемнело, и улицы очистились от толпы, которая долго не расходилась с площади перед мэрией. В доме Доктора отвратительно пахло, словно в нем сдохла собака. Под каждое окно он положил влажные салфетки, чтобы в комнаты не проникал воздух с улицы, но это был напрасный труд. Во время разговора со Старухой он часто подносил к носу платок. Салфетки, пропитанные бергамотовым одеколоном, все равно не спасали от зловония.
– Что это с тобой, насморк?
– Нет. Вы что, ничего не чувствуете?
– А что я должна чувствовать?
– Да этот жуткий запах разложения, он держится в городе вот уже два дня.
Она презрительно взглянула на врача, качнув усохшей головой, на которой бесцветные глаза казались двумя бездонными пустотами.
Когда девочка закончила давать показания, Комиссар поднялся с места. Меховой сделал вид, что проснулся. Мэр, уже с трудом все это выносивший, на которого спертый воздух и рассказ ребенка подействовали так, словно огромная рука зажала ему одновременно рот и нос, мешая дышать, подошел к окну, отодвинул штору и взялся за ручку, чтобы открыть створку, как вдруг увидел внизу толпу, о которой успел забыть. Он замер, пораженный. Сотни глаз устремились вверх, прямо на него, и наблюдали за ним. Он задернул штору. С улицы донесся глухой шум, будто на огне бурлил гигантский котел.
Было решено отпустить домой девочку и ее отца. Мила взяла свечу и вышла из зала, не отрывая глаз от пола. Меховой посмотрел на Мэра, словно в ожидании приказаний. Раздраженный Мэр сделал ему знак убираться вон. Когда дверь мэрии открылась и на пороге появилась девочка, шум толпы смолк, точно так же, как смолк при ее первом появлении на площади несколькими часами ранее. Миле снова освободили проход. Она шла, держась очень прямо, с достоинством, со своей потухшей свечой в руке. Отец, следовавший за ней, напоминал старого шелудивого пса.
Все следили за тем, как она шла. Несмотря на страшную жару, всем вдруг стало холодно при виде ее, такой хрупкой, бледной, словно слабевшей с каждым шагом. Внезапно, когда половина площади уже была пройдена и девочка находилась точно посредине разделившейся толпы, в самом ее сердце, она остановилась и поднесла руку сначала к груди, потом к горлу. И те, кто находился поблизости, увидели, что бледные веки ее дрогнули, глаза закатились, и, точно скошенный серпом белоснежный цветок льна, она упала на черные камни мостовой.
И тогда из толпы раздался, а вернее выстрелил, крик, что-то вроде звучного плевка, ядовитый, острый, как гвоздь, и отточенный, как бритва. Крик, сам по себе уже воплощавший мщение, к которому он призывал и которого жаждал. Этот крик разнес на части площадь, ударил в стены домов, обрушился на двери церкви, оставшейся к нему глухой, и наконец достиг окон мэрии, за которыми Комиссар, Мэр и Доктор стоя приняли его словно пощечину, в то время как Учитель, по-прежнему сидевший на стуле, кажется, понял, что отныне – что бы дальше ни случилось, что бы дальше он ни сделал или сказал – для него все было кончено.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу