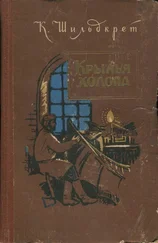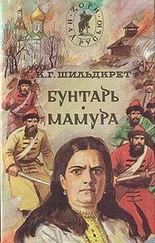– Эх, жизнь человечья! – стонал Фома, еще более удрученный воспоминаниями. – Эх, горюшко горькое…
Так, не замечая дороги, он зашел в далекие дебри. Ему хотелось уйти еще дальше. Но куда? Уйдешь совсем – потянется за тобой кличка Иуды. А останешься – убьют. Куда же деваться?.. Кому выплакать свое горе?
Атаман сел наземь, приткнулся к дубу и спрятал в руки лицо. Сон ли сошел на него или просто думка назад перекинулась, но увидел себя Фома пареньком в микулинской небогатой усадьбе. Вот он высмотрел купецкий обоз и скачет с донесением к помещику своему. Ночь темная, в лесу ведьмы ведут хороводы, леший гогочет. А вот и Микулин скачет с ловчими. Рядом с Фомой – отец. Разгорается лютый бой. Людишки микулинские приучены к ночному разбою, от них не укроешься. Как всегда, победа достается помещику. Он доволен, весело хохочет, поглаживает бороду. В заботу ль ему, что при дороге валяется раненный в грудь купецкими людишками родитель Фомы… Эка беда, одним холопом меньше!
Памфильев вздохнул и перекрестился. Прошлое вставало перед ним день за днем: сестра, отданная Микулиным в полюбовницы ограбленному купчине, Москва, дядька, мятежный стрелец Кузьма Черемной… вольница… царевы остроги… соляные варницы Соловецкого государя-монастыря… Ох и скорбен же путь подъяремного русского человека!.. И терпелив же он, и живуч, дыбой венчанный, кнутом крещенный!
Горбится атаманова спина, странно подрагивая. Неужто плачет? Фома?.. He может того быть! Не таковский человек, чтобы бабиться!
На лесные трущобы падает тишина. Ложится тишина и на сердце. Где-то далеко-далеко слышится топот. Глаза сжимаются, даже круги разноцветные плывут перед ними: так куда виднее. Вон кто-то скачет, летит на коне. Э, да то жена, Даша. От царевны Софьи Алексеевны с упреждением о лукавстве государевых ближних. На груди у Даши мешочек, а из мешочка уставились на Фому мертвые глаза дочки Лушеньки.
«Что ж, – думает Фома. – Не судьба, значит… Может, ей там лучше будет. Может, хоть там к убогим милостив Бог».
Он тряхнул головой, чтобы развеять призраки, и, поднявшись, тяжело зашагал прочь.
На опушке атаман остановился. Над ним расстилалось черное небо, запорошенное пылью Иерусалим-дороги [16] Иерусалим-дорога – Млечный Путь.
.
Усталая голова кружилась, и в ней, как огоньки в паникадиле [17] Паникадило – подвесной светильник со многими свечами.
, гасли одна за другой живые мысли. Кто-то вдали свистнул. Где-то отозвались. Памфильев очнулся. «Станичники», – узнал он своих.
Он хотел было двинуться к ним навстречу, но тотчас же решился – зашагал в противоположную сторону. «Один путь: к Даше и сыну… Покудова я буду в отлучке, они перебродят и в разум взойдут… Тогда и вернусь к ним».
Он пять лет не видел жену, не знал, что она делает, как живет (да и живет ли еще?) в никому неведомом селе полковника Безобразова, куда привел он ее, вынужденный скрываться от царевых людей. А сын? «Чать, большой уже, – размечтался Памфильев. – Десятый годочек… Нынче уже Васьком не покличешь! Чего доброго, осерчает. Что ж, мы и по отечеству можем: Василий сын Фомин Памфильев. Ишь ты, сморчок! Чудно, мать честная…»
Ночь была на исходе, и Фома заторопился. Надо было ловить последние ночные часы: какой же это легковерный человек доверяется дню! Только ночь и служила еще верой и правдой убогому люду российскому. Утро рождало тревоги и страхи. Мог встретиться на пути царев человек, а тогда – поклонись на все четыре стороны, вольный станичник. Не видать тебе долго, может быть, никогда красного солнца, дремучего леса.
Хлестнет ли дождь, черная ли ночь накроет землю монашеской манатеей [18] То есть мантией, накидкой.
, а то и любо убежавшему от холопьей неволи ватажнику. Реви, ураган, разверзнитесь, хляби небесные, мечи, молния, острые стрелы, гремите, громы! Любо то бунтарской лесной душе!
Глава 10
Хоромины «по-европейски»
Село Безобразовка на добрые полверсты раскинулось вдоль большака.
Из Москвы и в Москву тянулись большаком торговые обозы, проезжали именитые люди. Редко кто из них не останавливался в Безобразовке передохнуть. Бойкое было место, прибыльное.
Владелец села Безобразов не походил на своих соседей помещиков, державшихся за старину. Он побывал за рубежом, научился с грехом пополам болтать по-немецки, читал не только духовные, но и светские книги, зорко присматривался к жизни «просвещенной» Европы. На лугах у него паслись тонкорунные овцы. Свиней он завел английских, коров – холмогорских. На льнопрядильне кружились денно и нощно фландрские колеса, поражали любопытных трепалки и прочие диковинные иноземные выдумки.
Читать дальше
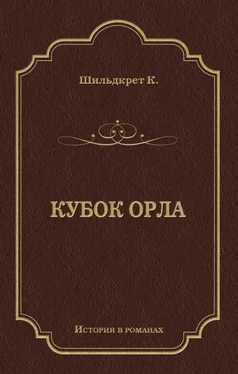




![Маша Храмкова - Арктур и Кубок Планет [litres]](/books/395214/masha-hramkova-arktur-i-kubok-planet-litres-thumb.webp)