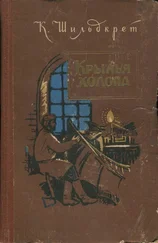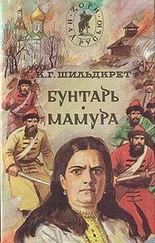Плач совы повторился. Приглушая его, загремели выстрелы.
– Разбойные! – надрывно крикнул один из дозорных.
– Разбойные! – весело, точно встретив старых друзей, ухнули бурлаки.
Васька решил не принимать боя, а, отстреливаясь, пробиваться вперед. Но бурлаки сразу, как по уговору, посбросали с плеч лямки. Судно Памфильева задержалось ненадолго и нехотя пошло вспять. Фома пронзительно свистнул. В ту же минуту грохнула спрятанная в шалашике пушка. С вершины утеса посыпались тяжелые камни.
Все это произошло так стремительно и создало такой шум и треск, что казалось, будто на караван обрушилась целая орда. Никто в караване теперь не сомневался в словах губернатора, предупреждавшего о «несметных полчищах станичников». Выстрелы, свист, улюлюканье, хохот гремели со всех сторон. Время от времени, повторяемое тысячекратным эхом, прокатывалось «ура», рвавшееся из грудей трех ватажников, нарочито расставленных для этого в подходящих местах.
Васька понял, что гибель неизбежна, и, проклиная все на свете, сдался.
Ватажники трудились до рассвета, разгружая суда. Связанных по рукам и ногам пленников уволокли в глубину леса.
Последним взяли Ваську. Он сидел безучастно на сундучке, в котором хранилось его добро, и не заметил, как подошли к нему.
– Будет прохлаждаться! Вставай!
Васька зашатался и упал на руки одного из станичников. Лицо у него было желтое, как просыпавшийся из карманов его урюк. Глаза омертвели, руки повисли, бессильные и тяжелые, как ослопья.
– Заробел, сермяга, – не без жалости проговорил ватажник. – И лик словно дыня…
Ваську на руках принесли в ладью. Уже на берегу он ударил себя в грудь и почти с радостью крикнул:
– Вспомнил! Дыня! Был такой в Безобразовке. Митрий Никитич.
Он огляделся по сторонам, как человек, пробудившийся после ужасного сна, и протер глаза. Кругом были станичники, пленные, навьюченные ящиками кони.
– Не отдам! – рванулся он к лошадям. – Господское! Головой с меня взыщут!
Перед ним лицом к лицу стал Купель. Взгляд казака вспыхнул. «Тот иль не тот? – старался угадать он. – Быдто бы тот».
Если бы Васька не произнес имени Дыни, Купель бился бы об заклад с кем угодно, что узнал предателя. Но теперь пришлось крепко поразмыслить. Вспоминая все, что рассказывал Фома про Безобразовку, Купель невольно начинал думать, что Васька и есть тот самый атаманов сынишка, который затерялся во время пожара хоромин. «Но как же сие возможно? – недоумевал Купель. – Не может же статься, что сын атаманов – иуда».
– Идем… – несмело позвал он за собою пленника. – К атаману…
Что-то ударило в сердце Фомы, едва он взглянул на сына:
– Ты… Кто ты?
– Управитель Апраксина.
«Он! – зашатался атаман. – Васька!»
Памфильев лежал связанный в берлоге отца.
Он знал, что судьба его решена, и не просил больше пощады. Но ему не было страшно. Он как будто примирился с судьбой. И если взгляд его загорался иногда безумием, то сидевший рядом Купель напрасно принимал это за ужас перед концом. Пленного бесило другое. Он не мог простить себе, что принял десяток станичников за целую ватагу.
К берлоге, тяжело ступая, подошел атаман.
Купель с болью поглядел на него. «К чему я эдакой пыткой его подарил? – каялся он. – Не краше ли было пырнуть гада ножом и сбросить в Волгу? Тогда бы ничего не знал атаман. А теперь я ему всю жизнь опоганил». Он встал, чтобы уйти, но Фома удержал его:
– Не уходи… Нужен будешь…
Ваську поразил голос отца, страдальческий и беззлобный. Что-то похожее на надежду зашевелилось в его груди.
– Ты предал сего казака? – спросил атаман.
Еще немного, и Васька начал бы клясться, что Купель ошибается. Но, пораздумав, он сообразил, что выгоднее держаться иначе. Голова его беспомощно склонилась. По щекам заструились крупные слезы.
– Я! – крикнул он. – Предал и не чаял, какой грех непрощенный на душу беру. Дитей малым был. Не разумел ничего… Иуда я! Кат! Вечные погибели мне!
– Атаман! – глухо произнес Купель.
Памфильев вздрогнул:
– Не надо… забудь про наши дружбы, Купель. Не твори неправды. Сотвори так, как велит тебе истина. Забудь, что сей каин мой сын… Отрекаюся!
Глаза Фомы холодно поблескивали, но за блеском этим можно было угадать такую печаль, что сердце Купеля размякло: «Не убью души человека, который дороже мне батюшки с матушкой! Не загублю друга верного».
Больше они не обменялись с атаманом ни словом. Сутулясь и едва передвигая ногами, Памфильев поплелся прочь.
Читать дальше
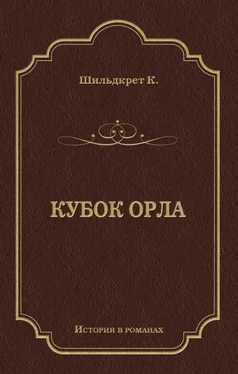




![Маша Храмкова - Арктур и Кубок Планет [litres]](/books/395214/masha-hramkova-arktur-i-kubok-planet-litres-thumb.webp)