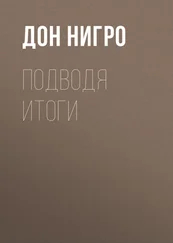В Америке он старался вообще не думать о ситуации, которая была ему неподвластна, сознавая при этом, что страшная тайна разобщает его с семьей. Бросив пить, он начал стремиться к Зоне-три, привидевшейся ему спьяну во время прогулки по саду Уолтера и Бет. Когда он пытался дать определение этой зоне, то думал о доброте, в основе которой не лежит компенсация или чувство долга. Пусть он не мог толком ее описать, ему было дорого это хрупкое наитие о том, что такое внутреннее благополучие.
В самолете Патрик наконец рассказал Мэри, что происходит. Томас спал, Роберт смотрел кино. Поначалу Мэри только выразила ему свое сочувствие. Она не знала, стоит ли высказывать вслух подозрение: Патрик настолько увлекся осмыслением собственных мотивов, что, возможно, упускает из виду истинные мотивы Элинор. Желание умереть – одно из самых заурядных проявлений жизни, но сама смерть – другое дело. Просьбы Элинор о помощи – отнюдь не предложение избавить детей от обузы, но единственный для нее способ остаться в центре внимания семьи. И действительно ли она сознает, что ей придется убить себя самостоятельно? Мэри почему-то думала, что в воображении Элинор нарисовался отнюдь не стаканчик горьких барбитуратов, а этакий мудрый и добрый доктор с глазами точно горные озера, который в последний раз поцелует ее на ночь и ласково сделает укол. Она была самым большим ребенком из всех, кого Мэри знала, – включая Томаса.
– Она откажется, – наконец сказала Мэри Патрику. – Просто не станет глотать, и все. Ты перевезешь ее в Швейцарию каким-нибудь специальным самолетом, покажешь врачам, получишь рецепт – а она просто откажется.
– Тогда я сам ее убью, – сказал Патрик.
– И сделаешь ей одолжение. Она того и добивается – чтобы ее избавили от необходимости самоубийства.
– Да и ладно, – нетерпеливо вздохнул Патрик. – Жаль только, что придется делать вид, будто я ей верю – верю той единственной фразе, которую ей удается произнести.
– Так она вполне искренне хочет умереть, – сказала Мэри. – Просто вряд ли готова.
Из герметичного мирка наушников Роберт почувствовал, что родители оживленно что-то обсуждают. Он снял наушники и спросил, о чем они говорят.
– Думаем, как помочь бабушке, – ответила Мэри.
Роберт снова надел наушники. Для него Элинор была просто кем-то, кто пока не умер. Родители больше не брали их с Томасом на встречи с бабушкой, полагая, что такие переживания детям ни к чему. Вспоминать стародавнее прошлое, когда он еще был близок с Элинор, становилось все труднее и вряд ли стоило прилагаемых усилий. Порой, когда рядом появлялась вторая бабушка, его равнодушие к первой оказывалось застигнуто врасплох и он вдруг припоминал – на контрасте с тугим узелком эгоизма Кеттл – мягкость Элинор и огромный ноющий кровоподтек ее добрых намерений. Тогда он забывал, как несправедливо она обошлась с его семьей, лишив их «Сен-Назера», и чувствовал, как это несправедливо по отношению к Элинор – быть Элинор, не столько из-за ее тяжелых обстоятельств, сколько потому, что она – это она. Выходит, быть собой – несправедливо для всех, потому что никем другим люди быть не могут. Вообще-то, Роберту и не хотелось становиться кем-то еще, но его ужаснула эта мысль – он не сможет, даже если очень захочет. Он опять снял наушники, как будто именно они его ограничивали. Все равно эта комедия о говорящей собаке, ставшей президентом США, ни капельки не смешная. Роберт включил на экране карту. Их самолет летел над ирландским побережьем где-то к югу от Корка. Если уменьшить масштаб, становились видны Лондон, Париж и Бискайский залив. Еще уменьшить – появлялись Касабланка, Джибути и Варшава. Долго ли будет продолжаться этот информационный пир? Может, покажут, где они находятся относительно Луны? Наконец на экране высветилось то единственное, что могло интересовать пассажиров: 52 минуты до прибытия. Они летели уже семь жирных часов, накачанных сгущающимися часовыми поясами. Скорость; высота; температура; точное время в Нью-Йорке; точное время в Лондоне. Можно узнать все, кроме самого интересного – который час на борту самолета. Часы попросту не справлялись с этими раздутыми, обогащенными минутами. Будь на то воля часов, они бы убрали с экранов все цифры и показывали слово «СЕЙЧАС» до самой посадки, когда можно будет опять нормально отсчитывать время.
Роберту тоже не терпелось приземлиться, очутиться дома, в Лондоне. Теперь, когда «Сен-Назера» у них больше нет, Лондон стал его абсолютным домом. Он слышал про детей, которые врут, будто их родители – какие-нибудь гламурные знаменитости, а не те зануды, с которыми приходится жить. Что-то подобное он проделывал с «Сен-Назером» – притворялся, что это его настоящий дом. После шока утраты он постепенно пришел к расслабляющему осознанию, что его место – среди мокрых рекламных щитов и гигантских платанов родного города. По сравнению со скученностью Нью-Йорка робкие заигрывания Лондона с природой и хаотичная уединенность его улиц казались прямой противоположностью того, для чего нужны города, однако Роберт мечтал поскорее вернуться к черной жиже парковых дорожек, затопленным дождем детским площадкам и лужайкам, усыпанным мертвой листвой, поскорее увидеть в зеркале свою колючую школьную форму, услышать, как хлопнет дверца машины, когда его повезут в школу. Ничто не могло быть экзотичнее глубины этих чувств.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Эдвард Сент-Обин Патрик Мелроуз. Книга 2 [Молоко матери. Подводя итог] обложка книги](/books/421064/edvard-sent-cover.webp)


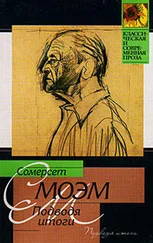


![Эдвард Сент-Обин - Патрик Мелроуз. Книга 1 [сборник]](/books/423229/edvard-sent-obin-patrik-melrouz-kniga-1-sbornik-thumb.webp)
![Эдвард Сент-Обин - Двойной контроль [litres]](/books/431497/edvard-sent-obin-dvojnoj-kontrol-litres-thumb.webp)