Успокоила Ульяна Тоню и решила: больше сюда ни ногой. Хоть поселковые и темны, и злобны, но в чем-то правы: гусь свинье не товарищ. Так решила, однако решения своего не исполнила. Слишком уж ее после поселкового однообразия, после домашней бедности и тяжелой работы по мытью вагонов привлекли эти, может, как раз всеобщей поселковой нелюбовью сохраненные в первичном своем виде люди, эти тарелки и эта мебель. К тому ж больше подобных разговоров не было. Первый раз прошумело от новизны встречи, от накопившегося с обеих сторон однообразия. Тем более минут через десять после припадка вышла Раиса Федоровна умытая, одетая по-иному, хоть и богато, но как одеваются барышни в советских конторах: юбка, жакет, белая блузка с манжетами. Волосы не распущенные, а собраны, заколоты клубком, губы слегка подкрашены. Красивая, хоть и в летах. Видать, и сама чувствует эту свою красоту — женщина всегда свою красоту чувствует. Рассказала, что главный инженер мочально-рогожной фабрики ее сватал, но она отказала, невзирая на то что мужчина он заметный и на десять лет ее моложе.
— Зачем? За областного начальника или московского тем более, может, и вышла бы ради брата. Однако мы ведь ссыльные. Областной даже и захочет — побоится. А просто так быть наложницей, терпеть возле себя хамский запах, который никакими дорогими духами не заглушишь, — уж извините. Особенно после моего жениха-поляка. У меня в начале двадцатых была в Москве любовь с одним польским художником. Точнее, дипломатом, но и художником. Другом Анатолия. Прочти, Анатолий, стишок, который ты про Збышека сочинил.
Анатолий Федорович, который более молчал, слушая свою властную, обожаемую сестру, подчинился и прочел:
Он был не в меру польский,
Он был не в меру псих.
Он был Збышек Раздольский,
Моей сестры жених.
— Замечательно, — сказала Раиса Федоровна, — и после всего этого — с хамом? Мы ведь сюда приехали не совсем добровольно. Точнее, бежали в глушь, опасаясь ареста, после того как Збышека выслали в Варшаву… И после всего — поменять Збышека на хама? — снова повторила она. — Вы знаете, какой слух они про меня пустили? Теперь уж забылось, а когда я была помоложе, то многие из них меня хотели… Тут был начальник поселковой милиции Восрухов… Фамилия замечательная, княжеская. Так этот Восрухов меня изнасиловать хотел… Вызвал как будто для проверки паспорта.
— Оставь, Раиса, — умоляюще сказал Анатолий Федорович, — здесь же девочка.
— Ребенок все равно не понимает, о чем речь… Дай ей конфет… Вон ту коробку. Это московские конфеты фабрики Бабаева, бывшей фабрики Абрикосова. Купцы больше любили от Абрикосова, а аристократия — от Эйнема, ныне фабрика «Красный Октябрь»… Теперь ведь все красное… Зори покрасили, осенний месяц перекрасили… Но чего я все о конфетах? Чтоб подсластить нашу горечь, что ли? Знаете, какие слухи обо мне этот Восрухов пустил? Будто я живу со своим братом не только как сестра, но и как женщина…
— Умоляю тебя, Раиса, — сказал Анатолий Федорович, — не понимаю, отчего ты сегодня так разговорилась при гостях.
— Потому и разговорилась, что при гостях. У нас ведь гостей не бывает.
— Верно, мы уж засиделись, — заторопилась Ульяна, — меньшого из садика время забирать.
Вышла с Тоней и решила: сама сюда больше не пойду и Тоню не пущу. Однако и сама ходила, и Тоню пускала, поскольку более опасных разговоров не было и время проводилось приятно и полезно. Тоня полюбила книжки с картинками разглядывать, которые ей Анатолий Федорович показывал. И Ульяна этому радовалась: ведь уже большая, через год в школу. А сама Ульяна полюбила слушать, как Раиса Федоровна поет, поскольку тоже была певунья. Петь, правда, при Раисе Федоровне и Анатолии Федоровиче стеснялась, но слушала пение с удовольствием. Пела Раиса Федоровна всегда с надрывом.
Астры осенние, грусти цветы,
Тихо-задумчивы ваши кусты.
Тихо качаетесь, грустно склоняетесь
Осенью поздней к земле.
Когда Раиса Федоровна так пела, то у Ульяны каменело в груди и было жаль чего-то непонятного, о чем раньше не думала никогда.
Сад весь осыпался, все отцвело.
Листья опавшие вдаль разнесло,
Лишь одинокие астры осенние
Ждут не дождутся весны…
Выпал и растаял первый снег — это значит, зима уже рядом, хоть валенки надевать еще рано и Тоня по-прежнему ходила в подаренных дядей Толей калошах. «Осенний снежок — не лежок. Выпал да тает. От первого снега до санного пути — шесть недель срока». Когда минули эти шесть недель, когда запуржило, замело в поселке, когда Пижму льдом сковало, совсем уж Ульяна и Тоня привыкли к Мамонтовым и, случалось, даже с меньшим Давидкой приходили, которого Мамонтовы угощали молоком и медом. И, случалось, уж сама Ульяна приходила без детей, поскольку нравилось ей с Анатолием Федоровичем говорить, точнее, слушать его. Говорили о разном, о таком, о котором ранее Ульяна и представления не имела. Но слушала с интересом и удивлялась, как много меж собой связанного в мире, что ни возьми. Растения ли, которыми Анатолий Федорович увлекался, поскольку работал садовником, мебель ли, которая как будто стоит и молчит, — всё тревожит и радует, если вглядеться и вдуматься.
Читать дальше
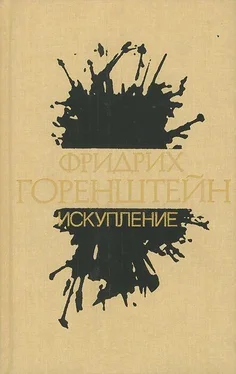


![Фридрих Горенштейн - Шампанское с желчью [Авторский сборник]](/books/142121/fridrih-gorenshtejn-shampanskoe-s-zhelchyu-avtorskij-thumb.webp)


![Фридрих Горенштейн - Дом с башенкой [Журнальный вариант]](/books/427190/fridrih-gorenshtejn-dom-s-bashenkoj-zhurnalnyj-vari-thumb.webp)