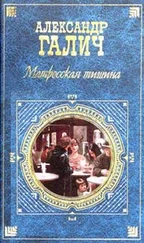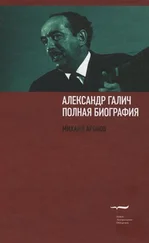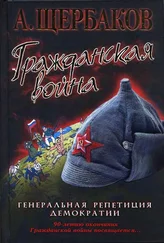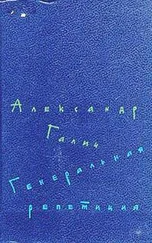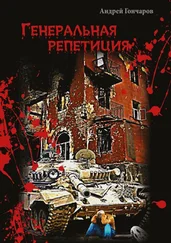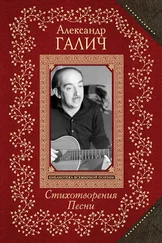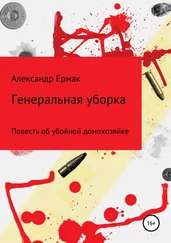Чем он восхищается, что ненавидит — этого не понадобится растолковывать никому. Позиция Галича не знает внутренних противоречий. Все договорено до конца, иной раз даже с чрезмерным нажимом.
Но так — лишь в его песенной публицистике. В балладах, в городских романсах все куда сложнее. Там прихотливый спектр оттенков и полутонов, законченные характеры, которые, согласно законам драматургии, обладают собственной логикой развития, фабула, всегда отмеченная жизненной достоверностью, хотя ситуации чаще всего анекдотичны. Сам автор в движение фабулы не вмешивается, не навязывает персонажам собственных взглядов и оценок. Он незаметен. Его присутствие, как в рассказах Зощенко, выдает только манера повествования.
Ее точнее всего назвать ироничным сказом. В таких случаях необходим взгляд изнутри героя, а не извне — на него. Взгляд извне обладает рядом преимуществ, но и недостатков тоже: легко впасть в дидактику, в обличительность. Этого Галич старался избегать всеми силами. Он хотел понять и выразить время. И твердо рассчитывал, что если отойти в сторону, дав слово персонажу, то персонаж — наследник тетушки из Фингалии или супруг товарища Парамоновой, угодивший в красный треугольник, — прекрасно его выразит сам, без авторской подсказки. А уж тем более Клим Петрович Коломийцев, мастер цеха, член бюро и кавалер многих орденов.
Даже если всё написанное Галичем забудут, Клим Петрович, я уверен, останется, потому что это редкий пример, когда эпоха нашла своего настоящего героя. Он ведь из самой городской толщи, незадачливый этот оратор и борец за своеобразно понятую социальную справедливость, отмечающий запоями собственные неудачи в начальственных кабинетах. Для власть предержащих он, разумеется, марионетка, образцово показательный пролетарий, которого таскают по митингам с приготовленной референтом выдающейся речью, а в награду за труды удостаивают чести с делегацией ЦК профсоюза посетить дружественный Алжир. И, до подкорки пропитавшись «новоязом», он добросовестно требует к ответу израильскую военщину, долдонит про юбилейную вахту и про «продукцию на весь наш соцлагерь». Словом, он «партейный человек, а не зюзя», — могли бы лишний раз ему об этом и не напоминать в обкоме.
Но в том-то и фокус, что не просто «партейный человек» Клим Петрович. Как его ни воспитывали, как ни обтесывали да обстругивали, до конца вытравить в нем человека природного — достаточно сметливого, чтобы сообразить, что к чему, — не получилось. И вот он прямо у нас на глазах раздваивается: есть функция, которую Коломийцев старательно выполняет, и есть подлинная его жизнь, с этой функцией не соприкасающаяся ни в общем, ни в частностях. Функция требует, чтобы он по шпаргалке боролся за мир во всем мире, поучал интеллигентов мыслить, как «лично — вы знаете кто», и крыл НАТО на встречах с алжирцами. А жизнь — это совсем другое: это принять с утра сто граммов «для почину», попариться в баньке. Запастись, улетая за рубеж, консервированной салакой, чтобы по пустякам не тратить пусть маломощную, но валюту. Выбить поприличнее жилплощадь, посолиднее получку.
С функцией бывают накладки. Перепутали бумаги, и вот ораторствует наш Клим Петрович от имени матери-героини. Но это совершенно все равно — ритуал есть ритуал, главное, чтобы машина крутилась без остановок, и зря Коломийцев заколебался, не сойти ли с трибуны:
В зале вроде ни смешочков, ни вою…
Первый тоже, вижу, рожи не корчит,
А кивает мне своей головою!
Так с функцией. А с жизнью? С нею непорядок посерьезнее, поскольку вся она к тому одному и сводится, чтобы, исполнив функцию, кое-что урвать для себя — и еще хорошо, если не делая другим гадостей. Она замусорена лишенными малейшего смысла лозунгами и клише, которые от бесконечного повторения приобрели вид абсолютных истин и властвуют над сознанием. Она деформирована настолько, что люди, ею живущие, всерьез воспринимают водевиль как драму, а в собственном ничтожестве усматривают неоспоримое достоинство. В ней все перевернуто с ног на голову, все напоминает увешанную кривыми зеркалами комнату смеха, где почему-то совсем не смешно, а тянет запустить в первого попавшегося заборным словцом да развеять тоску исконным российским способом.
Примириться с такой действительностью Галич не мог. Еще меньше мог хоть что-то в ней исправить. Но своим бессилием не утешался. Не признавал дешевого отчаяния, как и очень в ту пору распространившейся висельной иронии, которая освобождала от всех тревог: не нами, мол, заведено, и не на нас кончится.
Читать дальше
![Александр Галич Генеральная репетиция [сборник] обложка книги](/books/420175/aleksandr-galich-generalnaya-repeticiya-sbornik-cover.webp)