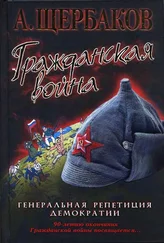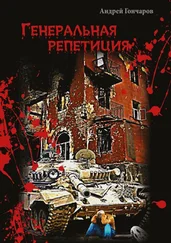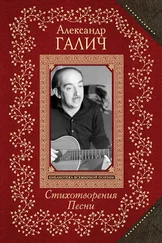Памятуя о комендантском часе, гости разошлись в начале двенадцатого. Саша и Аня задержались, они словно забыли о времени. Далеко за полночь Саша спросил: «Можно, мы останемся у вас?»
— По-моему, вы уже это сделали.
Место было только в ванной комнате. Жена принесла две гладильные доски, тощий матрасик, белье. Ложе получилось довольно узким и твердым.
— Ложе ригориста, — заметил Саша, — хорошо хоть, без гвоздей.
Утром за завтраком я спросил, как им спалось.
— Лучшая ночь в моей жизни, — улыбнулся Саша.
— И моей! — воскликнула Аня.
Они были так неподдельно счастливы, что я предложил жене спать отныне только на гладильных досках.
— Ничего у вас не выйдет, — сказал Саша.
— Почему?
— Вы ветераны. А у нас это была свадебная ночь.
Мы тепло поздравили молодоженов. Жена принесла шампанское.
Конечно, мне было интересно, зачем любящей паре понадобились ванна и гладильные доски, если у Ани стоит пустая квартира. Когда женщины пошли варить кофе на кухню, я спросил Сашу. Он сказал, что не может пробыть там больше минуты. Квартира населена любовью и муками человека в обмотках, и это дает нестерпимый эффект присутствия. Я засмеялся, Саша подхватил. Есть такое противное выражение: смехунчик в рот попал. Это случилось с нами, не могу понять почему. Разговор-то шел о грустном, а мы ржали как жеребцы. Очевидно, снимались какие-то напряжения. Но что-то в этом смехе насторожило меня. Его волны докатились до счастливого, безмерно, беззащитно счастливого лица и затопили его. Лицо пошло ко дну, не было на нем и следа счастья, лишь пустота и отчужденность смерти.
— У тебя это серьезно? — спросил я. — Я Анютку знаю как облупленную, у нее такого сроду не было. Если она сейчас обманется… Все. Конец. Прости, что я об этом говорю.
Он мгновенно стер смех с лица.
— Не бойся. Это серьезно. Думаю, навсегда.
Так оно и сталось. Они поженились. Саша не давал Ане обет целомудрия, да она и не ждала от него никаких жертв. Саша был нужен ей такой, какой есть, а не украшенный чуждыми всей его сути добродетелями: верный муж, председатель общества трезвости, борец с никотином и другими наркотиками, примерный во всех отношениях гражданин. Ей был нужен блестящий, безудержный, неуправляемый, широкий, талантливый, непризнанный, нежный и в любых кренах жизни преданный человек, на которого она могла бы смотреть хоть чуточку снизу вверх. Ане нужен был не просто любимый, а любимый, которому можно поклоняться. Как бы ни складывалась их жизнь, а в ней было много всякого, как почти в каждой настоящей, не сусличьей жизни, — и семейные распри и брань, что не виснет на вороту, и дым коромыслом, но взгляд чуть снизу все равно оставался, ибо в главном, в боговом, Саша никогда не ронял себя. То не был взгляд сброшенной с седла амазонки (такой может быть и свысока), а взгляд женщины, склонившейся перед уходящим на бой воином. И ведь близилось то время, когда каждый день Сашиной жизни станет боем с противником, неуязвимым, как Ахилл, столь же свирепым, но куда менее обаятельным.
Саша не позволял обстоятельствам брать верх над ним. Я редко встречал такое спокойное, не кичливое, вроде бы не сознающее себя мужество. Когда сталинский антисемитизм стал доминирующим цветом времени, он написал лучшую свою пьесу «Матросская тишина» и, не в силах поставить ее на сцене, стал читать по домам. Читал он «Матросскую тишину» и в нашей компании.
Нельзя сказать, что он нашел благодарную аудиторию. Прежде всего, проблема пьесы никого кровно не затрагивала, а недостаток интеллигентности не позволял чувствовать чужую боль изгнанничества внутри собственной страны, как свою боль. Похоже, Саша провидел в пьесе свою судьбу, хотя тогда ничто не говорило, что «инженю-драматик» сменится песнями гнева и печали. Впрочем, почему не говорило? «Матросская тишина» по тем временам была опаснее вольнолюбивой гитары поры оттепели и застоя. Саша понимал это и хладнокровно шел читать в любое сборище, где его готовы были слушать. Аня восхищалась его бесстрашием, сама трусила, но не до омрачения. Она приучалась «жить с молнией».
В тот раз Саша зря потратил время, душу и артистический темперамент — вежливо-одобрительное мычание показало, что пьеса не дошла. И мои натужные критические рассуждения тоже были ни к чему Саше. Антон Рубинштейн говорил: творцу нужна похвала, и только похвала. Особенно творцу непризнанному или полу признанному, каким был Рубинштейн-композитор, каким был Саша с его домашней славой.
Читать дальше
![Александр Галич Генеральная репетиция [сборник] обложка книги](/books/420175/aleksandr-galich-generalnaya-repeticiya-sbornik-cover.webp)