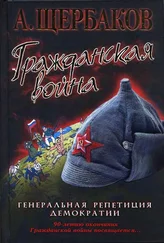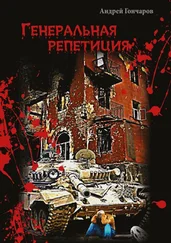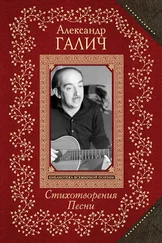Давид. Слышу. Рассказывай. Что?
Людмила. Я говорю — на улицах было полным-полно народу. И одни куда-то спешили — с вещами, с чемоданами, с подушками, а другие молча стояли у репродукторов и ждали. Ждали, что им хоть что-нибудь скажут… И вдруг объявили: «Передаем мазурку Венявского в исполнении лауреата Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей Давида Шварца…» И тут я увидела Таню. Она стояла под репродуктором — в белом платье, с красным букетиком астр. Очень нарядная. Очень красивая. И слушала, как ты играешь. Я подошла к ней, «мы обнялись — все это как-то само собой получилось, ведь мы и знакомы толком не были — и стали вдвоем слушать, как ты играешь…
Давид. Это была запись… Что?
Людмила. Да, конечно, это была запись. Но доиграть тебе не пришлось. Началась воздушная тревога, и все побежали в убежище, а щели, в парадные. А мы с Таней пошли по улице Горького, и я ее спросила, где ты. А она ответила: «Мой муж на фронте…»
Одинцов (бормочет в забытьи). Мост переедем, лесок переедем, а там и Сосновка… Водокачка, склады дорожные, садочек у станции. Бабы с девчонками яблоками торгуют, яичками калеными, варенцом… Мост переедем, лесок переедем…
Женька (раздраженно). А он свое, он свое! Прямо как заведенным!
Давид. Она так и сказала— «мой муж»? Ты хорошо это помнишь? Не Давид, а именно — муж?
Людмила. Муж.
Давид. Громче… Что?
Людмила. Она сказала— «мой муж».
Давид (слабо улыбнулся). Милая моя! Ты знаешь, мы поженились в сороковом, в мае… Мне как раз комнату дали. На Ленинградском шоссе. Там многие наши получили. И Чернышев, между прочим. Хорошая комната, двадцать метров. Мы из нее две сделали. А Танька хотела… Погоди, так ты говоришь, что она была очень красивая в тот день? И не было заметно?
Людмила. Что?
Давид. Нет, ничего… Значит, она была очень красивая?
Людмила. Очень.
Давид. Правильно. Она всегда очень красивая. Но в какие-то минуты она бывает такой красивой, что просто сердце заходится…
Возвращается Санитарка.
Санитарка. Людмила Васильевна!
Людмила. Разбудила?
Санитарка. Он с товарищем Чернышевым в операционной. Сказал — кончит операцию и придет.
Женька (громко). Сестра! Эй, сестра!
Людмила (обернуласо). Что ты кричишь, Женя? В чем дело?
Женька. Не в «чем дело», а койку мне надо поправить! Людмила. Ариша, поправь.
Санитарка подходит к Жаворонкову, но Женька со злым лицом, грубо отталкивает ее.
Женька. Уйди! У тебя руки кривые! Уйди ты к… Сестра!
Людмила (встало) Господи, наказанье! (Подошла к Женьке.) Что тебе? Ты же видишь — я возле тяжелых дежурю.
Женька (с внезапно истерическими слезами в голосе). А тут все тяжелые! Тут не с чирьями люди лежат! Вот погоди, я доложу начальнику, что ты со своим лейтенантом как не знаю с кем возишься! (Передразнивая.) «Додик, Додик»! И кислород ему, и пантапончик ему… А как другие у тебя пантапон попросят, так выкуси!
Людмила. Не дам я тебе пантапона.
Женька. А я знаю, что не дашь… Я ж не еврей!
Людмила. Что-что? (Помолчав, брезгливо и тихо.) Какая гадость!
Женька. Почему это — гадость? (Со смешком.) Правильно майор Зубков в полку у нас говорил. «Евреи, — говорил он, — они свое дело знают! Они и на гражданке, и на войне ближе всех к пирогу садятся…» Это точно!
Он обернулся, ожидая, как обычно, смеха и возгласов одобрения. Но вагон молчит. И только нижний Женькин сосед — ефрейтор Лапшин, немолодой человек с забинтованной головой, — отложил в сторону письмо, которое он читал при слабом свете синего ночника, и с любопытством снизу вверх посмотрел на Женьку.
Лапшин. Точно, говоришь?! (Покачал головой.) Ах, Женька ты, Женька! Сколько тебе годков?
Женька. А это к делу не касается! (Разозлился.) Брось, Лапшин, понял?! Всякий ефрейтор будет меня учить! Не нарвись я на эту мину чертову, я бы и сам к ноябрю ефрейтором стал! Мне майор Зубков так и сказал…
Лапшин. Опять майор Зубков?
Женька (срываясь на крик). Опять! Да, опять! Не нравится? Он мне вместо отца родного был, если желаешь знать! Он меня из горящего дома спас, он в полк меня записал, солдатом сделал, воевать научил…
Лапшин (сердито). Воевать он тебя, может, и научил. А думать не научил! Я вот вторую неделю с тобой еду, разговорчики твои слушаю — и просто диву даюсь! Ты же отравленный, Женька! Трупным ядом отравленный! (Передразнил.) «Солдат, солдат»… Солдатом стать легко, человеком стать трудно! Ну скажи ты мне, дорогой товарищ, кто тебе в малолетнюю твою башку столько всякого вздора понабивал?! Женщины у тебя все — бабье, ППЖ… Кикнадзе — душа любезный, Каспарян — карапет и армяшка…
Читать дальше
![Александр Галич Генеральная репетиция [сборник] обложка книги](/books/420175/aleksandr-galich-generalnaya-repeticiya-sbornik-cover.webp)