Лора – младшая дочь Артансов, довольно милая девушка, к которой редко кто приходит. Старшая, Клеманс, – неприятная особа, ходячее уныние, святоша, почитающая долгом есть поедом мужа и детей до конца своих блеклых дней, расцвеченных лишь воскресными мессами, приходскими праздниками да вышиванием крестиком. Есть еще младший сынок Жан, законченный наркоман. В детстве он был прелестным мальчуганом с удивленными глазенками, за папой ходил хвостом, как будто жить без него не мог. Когда же втянулся в наркотики, стал совсем другим – словно разучился двигаться. Все детство он пробегал – и напрасно – следом за божеством, теперь же передвигался как-то скованно и угловато, то и дело везде: на лестнице, около лифта, во дворе – застывая на ходу, порой надолго, а пару раз и вовсе засыпал – на моем половике или около мусорных баков. Однажды, когда он стоял вот так, уставившись стеклянным взглядом на клумбу с чайными розами и карликовыми камелиями, я возьми и спроси, не нужно ли ему чем-нибудь помочь, а про себя подумала, до чего он становится похож на Нептуна: нечесаный, кудлатый, с прилипшими к вискам завитушками, слезящимися глазами и подергивающимся влажным носом.
– Да… да нет, – ответил он, делая такие же промежутки между словами, как и между движениями.
– Может быть, хотя бы присядете?
Он удивленно повторил:
– Присядете? Да… да нет, зачем?
– Отдохнете, – сказала я, – немножко.
А он в ответ:
– А-а-а… ну-ну… Да… да нет.
Ну, я и оставила его стоять среди камелий, но из окошка на него поглядывала. Прошло довольно много времени, наконец он насмотрелся на цветы и, вижу, бредет к моей двери. Я открыла, не дожидаясь звонка.
– Пойду прогуляюсь, – сказал он, но вряд ли видел меня – мохнатые шелковистые уши нависали перед глазами. И с явным усилием прибавил: – А эти вот цветы… они как называются?
– Камелии? – удивилась я.
– Камелии… – повторил он задумчиво. – Камелии… Да-да, спасибо, мадам Мишель. – И голос его при последних словах внезапно окреп.
Потом он повернулся и ушел. Несколько месяцев я его совсем не видела, и только в ноябре, как-то утром, он появился в подъезде, но вид у него был такой, что я его не сразу узнала. Так он опустился. Конечно, никто из нас не застрахован от падения. Но чтобы совсем молодой парень так рано дошел до точки, откуда уже нет возврата, и чтобы это выражалось так явно, так неприглядно… у меня сердце сжалось от жалости. Жан Артанс превратился в развалину, жизнь в нем еле теплилась. Я со страхом думала, справится ли он с кнопками и дверцами лифта, но моя помощь не потребовалась – в подъезд вошел Бернар Грелье, быстро подхватил Жана и поднял его как перышко. Последнее, что я видела, прежде чем лифт вознесся ввысь: придурковатого верзилу с обмякшим мальчишкой на руках.
– Но еще придет Клеманс, – сказала Мануэла, которая обладает непостижимым даром следить за ходом моих невысказанных мыслей.
– Шабро поручил мне попросить ее уйти, – припомнила я. – Месье Артанс не хочет видеть никого, кроме Поля.
– Баронесса с горя высморкалась в тряпку.
Баронесса – это Виолетта Грелье. По-моему, ничего удивительного. В последний час всегда проступает истинная суть. Суть Виолетты Грелье – тряпка, а Пьера Артанса – шелк; у каждого свой удел, от которого не отвертеться, как ни старайся; можно тешить себя разными иллюзиями, но в финальной сцене все равно предстанешь тем, чем на самом деле был всегда. Ходи хоть всю жизнь в тонком белье – от этого у тебя самого тонкости не прибавится, как у больного не прибавится здоровья оттого, что его окружают здоровые люди.
Я налила чай, и мы отпили по глоточку. Нам еще никогда не приходилось чаевничать вдвоем по утрам, и в этом нарушении заведенного порядка была своя прелесть.
– Как хорошо, – прошептала Мануэла.
Еще бы не хорошо – ведь мы наслаждались вдвойне: во-первых, это маленькое отступление лишь освящало обычай, который мы сотворили сами, повторяя одно и то же действие из вечера в вечер, пока оно не затвердело настолько, что стало ядром и опорой повседневной жизни, и сегодня, сделав шаг в сторону, мы убедились в прочности своего детища; а во-вторых, мы, как драгоценным нектаром, упивались чудом этого исключительного утра, когда стершиеся до автоматизма движения внезапно обретали свежесть и мы все делали словно в первый раз: вдыхали аромат чая, пили, отставляли чашки, наливали еще, снова пили маленькими глоточками. Это чаепитие – точно прореха в плотной ткани обычая, которая ненадолго обнажила канву бытия и которую мы залатаем с таким же удовольствием, с каким проделали; точно магические скобки, выносящие сердце из грудной клетки в самую душу; точно крохотное, но животворящее семя вечности, проникшее во время. Во внешнем мире то шум и рев, то сон и тишь, бушуют войны, суетятся и умирают люди, одни нации гибнут, другие приходят им на смену, чтобы, в свой черед, тоже сгинуть, а посреди этой оглушительной круговерти, этих взрывов и всплесков, на фоне вселенского движения, воспламенения, крушения и возрождения бьется жилка человеческой жизни.
Читать дальше
![Мюриель Барбери Элегантность ёжика [litres] обложка книги](/books/420121/myuriel-barberi-elegantnost-ezhika-litres-cover.webp)

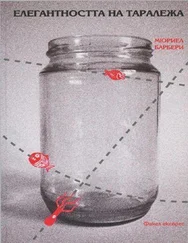




![Мюриель Барбери - Странная страна [litres]](/books/407704/myuriel-barberi-strannaya-strana-litres-thumb.webp)
![Сергей Михайлов - Фиолетовые ёжики [litres самиздат]](/books/436988/sergej-mihajlov-fioletovye-ezhiki-litres-samizdat-thumb.webp)


