— Пух, что будем делать?
Пух отвечает едва слышным «мяу». Это не ответ, и я собираюсь встать и поразмяться, когда за дверью раздается отцовский баритон:
— Петьо, ты здесь?
Пух сразу прыгает с моих колен, готовый скрыться под кроватью. Отец входит со сложенной газетой в руке, свежевыбритый, в старых брюках и пижамной куртке. В воскресенье он любит поспать подольше.
— Можно посидеть у тебя?
Садится у стола, который служит мне скорее библиотекой, заглядывает в открытую книгу, отодвигает блокнот. Потом вынимает сигареты, одну сует в рот, и протягивает пачку мне, — все это так медленное то мне заранее становится тошно. Я немного выпрямляюсь на стуле и шея у меня деревенеет от ожидания.
Ясно, предстоит серьезный разговор. Я это предчувствовал. В последние дни он держался со мной страшно внимательно, но я видел, как он на меня смотрел. Но и положение таково, что без разговора не обойдется. Вчера вечером я был уже совсем в этом уверен. Когда я вернулся домой, был слегка пьян от виски и от путаницы с этой Невяной, и он понял, что я пил. Ничего не сказал, только посматривал из-под тяжелых бровей и шутил, и шутил, и отправился спать в самом веселом настроении. Он умеет выжидать, это всегда производит на меня впечатление. Будь я на его месте, бухнул бы сразу, что у меня на уме, но он — нет. Никогда не нервничает, не позволяет себе взрываться. Только один раз он потерял самообладание, когда нашел меня после бегства из школы и назвал «лодырем». Очень он тогда испугался за меня, хотя казался спокойным.
Сейчас он тоже спокоен, и голос его звучит ровно и твердо:
— Ну, как идут дела, сынок?
— Хорошо.
— Хорошо? — Он глубоко затягивается, брови его приподнимаются, потом возвращаются на место. — Это ты называешь «хорошо»? Ну-ка, подумай немножко и тогда отвечай.
— Я думал.
То, как он со мной говорит, — мягко и великодушно, как с маленьким, — исключает возможность нормального разговора. Он сразу это чувствует:
— Не спеши обижаться. Ладно, может быть, ты и думал. Ты уже большой, имеешь право решать сам за себя. Но нам с твоей матерью не безразлично, как ты устроишь свою жизнь. Можно считать это базой для мужского разговора?
Я киваю, — что мне еще остается? К тому же это и вправду база. Мама каждый день тает возле меня, да и ему, наверное, уже невтерпеж мое молчание.
— В таком случае, скажи, по крайней мере, какие у тебя планы на будущее. Надо полагать, у тебя есть какие-то намерения…
Тон его все так же спокоен, но Пух потихоньку пятится и скрывается под кроватью. Если бы я мог, сделал бы то же самое, потому-что у меня нет никаких планов, даже самого крошечного планчика нет. Однако я сохраняю присутствие духа.
— Буду работать.
— Да? А именно? Грузчиком на вокзале? Или будешь таскать песок на стройках, как твой приятель?
Он смотрит на меня своими сильными большими глазами, а я молчу и думаю, но не высказываюсь, потому что это вызовет его раздражение. Думаю, что и песок таскать не так уж плохо. Кореш после истории с кражами два года ходил на заработки с одним мастером из Трына, и все равно настоящий мужик. Сначала он пытался филонить, но трынчанин не сердился и не ругался, только шлепал раствор на кирпичи и говорил: «Парень, ты хоть бы подушку себе подложил, задницу отсидишь». И Кореш научился работать, потому что мастер и не глядя видел все, что он делает…
Отец не ждет ответа:
— Я не говорю, что это плохо. Человек может зарабатывать себе на жизнь любым трудом, лишь бы труд был честный. — Он покашливает. Наверное, вспоминает свои взгляды на жизнь тех времен, когда он жил в квартале Ючбунар до войны. — Дело в другом. Ты парень не глупый и не бестолковый. Хорошо учился… когда хотел учиться. Математика тебе удавалась, машиноведение, по рисованию всегда был отличником. Почему ты отказываешься окончить школу, получить специальность? Что с тобой происходит?
— Ничего особенного, — говорю я. — Я подумал, время есть.
Я снова уклоняюсь от ответа, но так продолжаться не может. Пытаюсь придумать что-нибудь, что успокоило бы отца… И откуда мне знать, что со мной происходит? Просто нет у меня желания учиться, и вообще никаких особых желаний нет. В казарме я как-то успокоился и был уверен, что как только отслужу, тут же наброшусь на учебники, пройду, последний класс и потом буду поступать в машиностроительный. Но потом пришло письмо Кирилла, страшное дружеское письмо про Таню и ассистента из ВИТИСа, и я понял, почему Таня столько времени не писала. Ночью я плакал потихоньку, чтобы не услышали Кореш или дневальный, и тыкая носом в солдатскую подушку вспомнил лицо учителя Ставрева и лицо отца, когда он нашел меня после бегства из школы. А утром, на зарядке, решил, что не буду учиться и вообще ничто меня не интересует.
Читать дальше
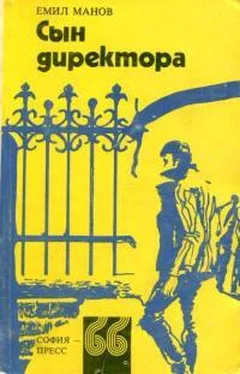
![Александр Карнишин - Будни директора школы [СИ]](/books/27684/aleksandr-karnishin-budni-direktora-shkoly-si-thumb.webp)










