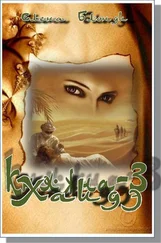Когда же вдруг Лета подошла к той грани, за которой слышен внятный и четкий постук часов, их неумолимое тиканье? Оно иногда смолкало, но лишь для того, чтоб уступить место беспрерывному шороху. Слыша его, Лета понимала — одни часы сменились другими. И вместо мерных шажков тонкой стрелки она слышит время, истекающее вечным песком.
Теперь к каждому уходящему лету примешивалось знание — к следующему она становится на год старше. И ее личная бесконечность маячит вдали неуклонно приближающимися краями. Конечная бесконечность. Смерть, к обязательности которой Лета привыкла, не принимая ее всерьез (можно ли представить, что ее вдруг не будет, да полно…), эта смерть вдруг приклеилась к поступи времени и стала реальной. Каждая секунда, отстуканная стрелкой, вела их навстречу друг другу.
Это было… а как же это было?
Лета открыла глаза в темноту и откинула край ставшего жарким одеяла. Привычно выставила колено, собирая одеяло складками на животе. В открытую форточку доносился дальний ленивый лай, и Лета вспомнила — когда еще была школьницей, к лаю все время примешивались крики всполошенных ночных петухов — их пятиэтажки стояли на самом краю городских улиц, и за ними начинались почти деревенские дома, там хозяева держали кур и свиней, там бегали, гремя цепью, Барсики и Букеты. Лают и сейчас, но деревенских петушиных криков давно уже нет.
Она повернулась на бок и стала смотреть на неясный блик в темном стекле полированной стенки. Не могла понять, что там ловит его, этот неяркий свет, и как всегда пообещала себе днем посмотреть внимательнее и понять. И знала, проснувшись утром, опять забудет. Ночью мир был другим, и заботы ночи были совсем отдельны от дневных забот. Ночью важным становилось другое. Например, то, что она совсем забыла о своих когадтошних чувствах. Как приняла она неумолимое и явное присутствие смерти? Своей и смерти тех, кто стоит на рубеже, заслоняя Лету? Если не брать во внимание несчастий и трагических случайностей (она знала, лучше их не думать, потому что мир полон ими, а надо как-то жить), то все равно уйдут близкие, по старшинству, сначала бабушки, всю Летину жизнь прожившие без своих потерянных на войне мужей. Потом — родители. И вот это уже не укладывалось в голове. Да. Так. Она приняла реальность собственной смерти, маячившей в самом конце ее личного календаря, но не могла представить себе, что умрет, например, мама. Или отец. Папа, который брал за руку горько плачущую маленькую Лету и говорил — а пойдем смотреть горошек. И она семенила, гордо цепляясь за его пальцы: через густо закиданный кустами сирени двор, через мощеную истертыми камнями дорогу, мимо общей колонки с блестящим металлическим рычагом — к огородику, где, о чудо, цвел горошек, синими, белыми и фиолетовыми цветками. Цветение горошка было несовместимо ни с каким горем, а значит, плакать не надо, потому что папа и вместе — смотреть на горошек.
Папа умер. Лета лежит, вглядываясь в темноту, где среди неясных, темных на темном, теней плавает размытой лодочкой блик на чем-то, стоящем на полке. Думает о том, что так же, как много лет назад не могла представить себе его смерти, так и сейчас не может представить смерти мамы, которая спит в другой комнате. А свою иногда может.
Ночь говорила о том, что спрячется и побледнеет днем, затеняясь ярким светом повседневности. И Лета не знала, а надо ли вспоминать, что именно она почувствовала, когда поняла малую малость о реальности смерти. Может быть, и воспоминания даются каждому в той мере, какая нужна. Принуждать свою память — надо ли?
Еще недавно ей казалось, она помнит все. Мелочи, следующие одна за другой, из них плетется ткань ее жизни. Яркий поясок, тканый из цветных нитей, что ходят от одного краешка к другому, укладываясь узорами. Ах, как забавно быть уверенной в чем-то, высказывать или обдумывать свою уверенность, выводя из нее некие правила, совершая открытия, и пытаться идти дальше, плетя нити жизни, думая — научилась. А после приходит другое время, и прошлые уверенности сменяются новым знанием. О том, что была неправа, потому что видела меньше. Будто держала у глаза кулак, смотрела в узкую дырку и толковала увиденный краешек уха и конец хвоста.
Конечно, она не может помнить всего! Ее воспоминания, как лампочки на елочной гирлянде, идут пунктиром, очерчивают нечто, а между ними — темные провалы. Кто-то другой, разглядывая эту же гирлянду прошлого, увидит на ней свои огоньки, иногда они те же, а чаще — другие. Да и нужно ли помнить все абсолютно? Может быть, главное — постараться, чтоб огни на ее гирлянде горели, не угасая. Когда будет в том нужда, в темных провалах между огней загорятся другие. Она вспомнит что-то еще. Возможность писать меняла Лету, и она отслеживала нынешние изменения себя, поражаясь и не зная — радоваться или нет. Просто следила, стараясь понимать. Новые огоньки, вот что поняла она, они могут быть не абсолютно точными воспоминаниями. Она теперь умеет зажечь в темных провалах свои собственные, возможно, не точные с точки зрения неумолимых фактов, но от того они не станут менее настоящими. И это было настоящим чудом. Возможность затеплить не обманчивый болотный свет, испуганно гаснущий, если попытаться увидеть его всерьез. — Зажечь свой, используя свет прошлого и новые возможности своей души.
Читать дальше