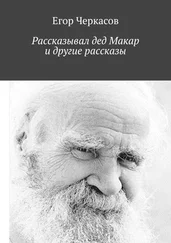Одна из подошедших пощелкала на компьютере.
— Нет у нас в районе таких. Не значится. Вы, бабуля, не староваты мошенничать-то? Какая еще мама? Нет, ну предположим, мы вам верим. А документы? Что «паспорт-паспорт»? А справки? А нормальный паспорт? Другого нет? Ну не знаю. Это вам надо с начальником. Только его… Он… Знаете что, сходите в архив… или в райадминистрацию…
* * *
Когда столетняя бабка Фрося слегла, она по-настоящему испугалась. Быстро поняла, что голод и раскулачивание в сравнении с беспомощностью сущие мелочи. Всякий раз, если дочь исчезала надолго из вида, старуха волновалась. А вдруг что с Маруськой? Ей всякий раз грезилось, что дочь так же вот на огороде сломает ногу и будет лежать, пока весной не оттает. Поэтому мать и наловчилась кричать. Как только Маруська замешкается во дворе, бабка Фрося глубоко вдыхает, напрягается, и… «Марусь… кхе-кхе… кяаааа!» Передышка, и снова: «Марусь… кяаа-аа-ааа». Маруська, заслышав придушенное «кяаа-аа-ааа», отвлекается от справы, прислушивается и: «Бягуу!!! Бягууу!!!»…
…Давно стемнело. Прикинув, что мама за день изволновалась и сорвала воплями глотку, Маруська безо всяких архивов направилась сразу к районному главе. Благо до электрички оставалось еще время. Ей редко везло, но в этот раз глава сидел в своем кресле. Водитель топтался в приемной, ждал. Секретарша истомилась. Бабулю приняли сразу.
— Что у вас? Откуда? А, Воробьевкя? Воробьевочкя?
Глава, как и весь район, посмеивался над захолустными воробьевцами. Уж больно потешно те разговаривают. Не «селедка» говорят, а «сяледкя», не «пьют молочко», а «ядять молочкё». С непривычки так не сразу выговоришь.
— Так. Насчет пенсии… А собес что? Вот ведь бара… Ко мне-то зачем… отвертелись, парази… Что еще за паспорт? Ну-ка… Это… Ого! Она что, живая?! Поможем, обязательно! Материальное это, да… Благостояние граждан. Вот ведь экспонат! Наш долг каждому… Принимать участие граждан… Поможем. Да-да. Езжай домой в свою эту… как?.. да-да, Воробьёвкю, хе-хе! Леночка, зайди! Отчет еще не отправляли? Переделайте… там это… Сколько хрычевке-то? Ну, маме, маме! Сто? Рекордсмен района, показатели переделайте, мол, благодаря действиям руководства средняя продолжительность жизни в районе увеличилась на сколько-то там процентов. Идите считайте… Всё, бабуля, домой, домой, к маме. Ждите, поможем… Леночка, запишите ее: кто-что… и все такое…
Потихоньку старушки свыклись со своими обстоятельствами. Поначалу искренне ждали обещанной помощи, потом забылось — перестали. Затянули пояса, как могли, и когда начался Великий пост, они не заметили на своем столе изменений. Бабка Фрося в пост обычно сама шкандыбала причащаться в соседнее село, где была церковь. Когда она осознала, что для причастия придется приглашать священника домой, беспокоить его, она было передумала… Покумекала, да «куды денесся», и послала дочь за попом. Батюшка явился через три дня, как и обещал.
— Здрассьте, хозяйки, мир вам. А, Евфросинья! Так вот кто у нас слег! Конечно, как же не помнить!
Феноменальная вы. Пятнадцать лет уже каждый пост удивляюсь, когда вы исповедуетесь. Да… Так что вы, готовы? Ну давайте. Сначала исповедь.
Священник проводил «Маруськю» в «запечкю», чтоб не подслушивала, накрыл болящую епитрахилью и принялся слушать то, что выслушивал от бабушки из года в год. Она, как всегда, расплакалась и зашептала:
— Сколь годов вот уже молюсь, прошу Бога, чтоб прибрал. До финской ишо, когда папаню релюцанеры убили… Потом, когда Петенька в финскую исгинул…
Я уж и плачу, все прошу, прошу: Господи, прибери ты мине. За чево мине это… Столь годов, одно молюсь, одно прошу. Маруськя измучилась… Чаво? Пост? А как жа, держим. Чаво? Нет, не ругаимси. Молитвы? Дак я их издетства читаю. Чаво? Как при царе-то жили? Дак, а чаво говорить-то? Все помню… И как церкву у нас строили, и как архирей приезжал. Папаню тогда хвалил, как читает-то на крыл осе. Ух, и голосистай был! И как рушили потом… А вот ты скажи: кажинный год все спрошаю, как молиться, чтобы поскорей… За что мине такое наказание Бог послал… Да, чево ты все «нога»-то? Не нога наказание — жисть. Жисть — наказание… Лет сорок уж все прошу, прошу… Какой это тебе грех? Не грех. Грех это — в петлю, руки на себе наложить, а молиться-то рази — грех? Какое ишо уныние? Уныние-то, знамо — грех. Да нет уныния-то. Молюсь, говорю, сил нету… На тот свет давно пора…
Батюшка причастил лежачую прихожанку. Перед тем как Маруська его проводила, он пообещал рабе Божьей Евфросинье, что станет молиться, чтоб Господь ее прибрал. Пообещал больше так, чтобы успокоить. Сам он и не думал просить у Бога смерти для своих прихожанок и на первой же литургии вынул частичку «о здравии и спасении рабы Божией Евфросинии». И, подумав, добавил от своего чистого молодого сердца: «И о еже умножитися ей лета живота ея».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
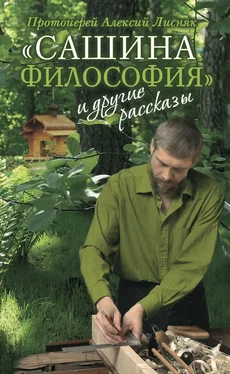

![Эльза Моранте - Андалузская шаль и другие рассказы [сборник рассказов]](/books/182445/elza-morante-andaluzskaya-shal-i-drugie-rasskazy-thumb.webp)