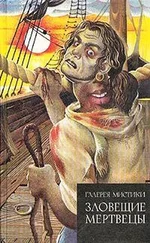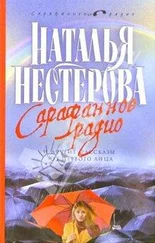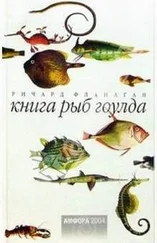Раздался щелчок.
С изумленным криком Хайдль дернулся вверх и назад. Ноги его подогнулись. На один быстротечный миг тело приняло форму перевернутого вопросительного знака и тут же рухнуло на землю.
Несколько мгновений он валялся в пыли, дергался и бился в конвульсиях, настоящий австралийский безумец. А потом вытянулся и застыл.
Я забыл, как сильно его ненавидел. В этот миг, вероятно, я его любил. Мне хотелось подбежать. Но я не сдвинулся с места. Я едва дышал и боялся, что это очередная проверка или новая ловушка. Если я шевельнусь, вдруг труп поднимется, чтобы меня прикончить? А если не шевельнусь, вдруг он вскочит, подбежит к моим спасительным колючим кустам и пристрелит меня, как собаку? Мне хотелось убежать, но я весь оцепенел и боялся умереть безропотным козлом отпущения.
Он не двигался.
Во мне нарастала решимость.
Только минут через десять, если не позже, я медленно пополз к Хайдлю. С расстояния метров сорока я увидел, что над его черепом кружат мухи, погружаясь в жирную кашицу из крови и серого вещества, капавшую на прелую листву и обломки коры эвкалиптов.
Из положения лежа я присел на корточки, потом, сгибаясь, встал, готовый спрятаться, упасть, убежать, если Хайдль вдруг встанет и откроет огонь.
Примерно метров с двадцати я разглядел жуткое выходное отверстие раны, прежде скрытое от моего взгляда. Кровь, мозги, лиловое месиво – все это вытекало у него из головы, хотя головы как таковой уже не было: рядом лежал отдельный кусок, напоминавший фрагмент мозаичной картинки, так и просившийся обратно, на свое законное место.
А потом я выпрямился над ним в своих рваных кроссовках. Мелкие черные муравьи облюбовали кашицу с красными точками возле его уха. По воздуху плыл запах нечистот. Я забыл и о книге, и о неполученном гонораре, и о собственной ярости, и о вранье и лени Хайдля. Сверху кружила черная сойка.
Но вот что самое страшное.
Его глаза следили за полетом птицы.
Он был жив.
2
Порыв ветра тронул эвкалиптовые ветви и поднял с земли вихрь листвы и коры. Среди шепчущего, летучего сора как воплощение отчаяния, безмолвного и неподвижного, лежал Хайдль, а муравьи продолжали свои вечные труды, пожирая вытекшие мозги еще одного существа, желавшего родиться заново и уже терпеливо несущего бремя токсо, Тэббе, ЦРУ, банков-убийц к их истокам. Изо рта вытекла струйка крови, но куда меньше тех, что показывают в кино. Предзакатное солнце опустилось на эвкалиптовые кроны. От красоты и покоя этого зрелища перехватывало дыхание.
Почему же он не умирал? Он не издавал ни звука, если не считать текучего шелеста борьбы за воздух, медленно перераставшего в леденящий душу посвист. Дыхание то и дело прерывалось паузами, и тогда я думал, что Хайдль наконец-то скончался, но всякий раз ошибался: шелест и свист возвращались. Порой слышалось даже подобие хрипа, но веки так и не смежились.
Его кошмарный взгляд был прикован к кружащейся сойке, будто он не хотел прогневить эту рану на жуткой, истекающей кашицей голове. Лицо, на самом деле уже превратившееся в маску, стало каким-то детским, податливым, бесформенным. Здесь больше ничего не оставалось от Хайдля. Вся его жизнь обернулась пустыми исканиями. Словно он так и не нашел свое истинное предназначение, величие и влечение, столь же бесконечное и безоглядное, бодрящее и непостижимое, как необъятные земли вокруг этого холма смерти, несоизмеримые с расстояниями, что отделяют Москву от Лондона, и при этом являющие собой Австралию – изобретение абсурдное, под стать ему самому, страну, которую он до последнего считал своей родиной.
Вероятно, в каком-то глубинном смысле так и было. Эту страну невозможно довести до бесконечного совершенства, но можно ввергнуть в бесконечные пороки. Она готова продавать себя по частям, и с каждым разом все дешевле. В такой стране он мог бы далеко пойти, бесконечно далеко. Наверно, он удивился, почему его восхождение завершилось столь бесславно. Мне хотелось с ним заговорить – молчание в такую минуту равносильно грубости, но, наверное, глупо было полагать, что разговор сейчас хоть что-нибудь для него значит. Я это понимал, равно как и то, что он и сам хотел бы поведать очень многое или, может, просто не знал, как заговорить о самом простом.
Это же сон, вертелось у меня на языке, потому что я так чувствовал. Чувствовал я и жуткую пустоту всего сущего, пустоту, которой можно защититься разве что от близости друг к другу. Но у меня не хватило духу сказать, что я с ним рядом, ведь он мог неправильно это истолковать и пристрелить меня тоже, тогда как сам не был в состоянии сказать, что он со мной, поскольку это было не так. Что есть сон и что есть явь, вот в чем вопрос, и нам требовалось расспросить об этом друг друга, поскольку он, вероятно, нашел ответ перед смертью, а я, вероятно, нашел ответ, наблюдая, как он умирает.
Читать дальше