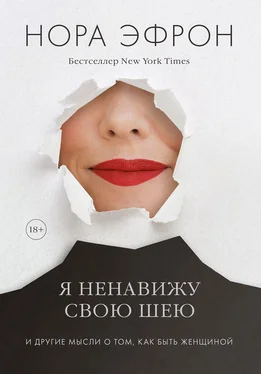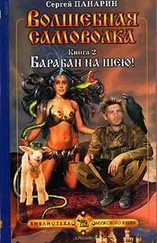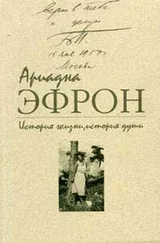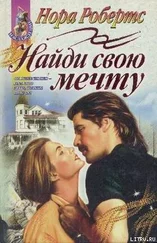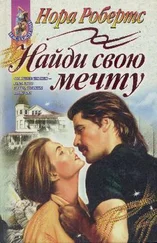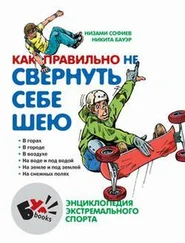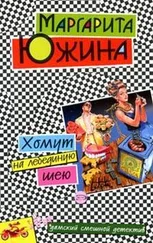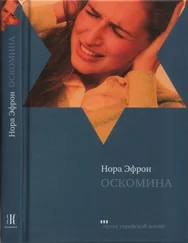Ты хоть представляешь, сколько это стоит?
Почему? По кочану. Потому что я так сказала.
Сейчас же иди сюда!
Немедленно прекрати.
Иди в свою комнату.
Мама Джессики может разрешать ей что угодно, а твоя мама — это я.
Тиара? Тебе нужна тиара?
В стародавние времена, когда родители оставались просто родителями, а не людьми, практикующими родительство , все было довольно легко. Не требовалось читать никакие книжки, потому что книжка существовала только одна — доктора Спока, педиатра, и в нее заглядывали лишь тогда, когда у ребенка была температура 39, круп или и то и другое. В прежние времена родители понимали, что у ребенка есть характер. Свой собственный характер, с которым он родился. Некоторое время ребенок с его характером вынужден был жить с вами и вашим характером, и вы делали все возможное, чтобы не поубивать друг друга. «Дети никогда не меняются», — часто слышала я в то время. Когда я родила первого ребенка, эта идея показалась мне очень странной. Почему же не меняются? Ведь когда ребенок совсем маленький, еще невозможно определить, какой у него будет характер. (Здесь я использую слово «характер» в самом широком смысле, имея в виду личность во всей ее многогранности.) Но постепенно малыш действительно проявлял индивидуальность, и, что удивительно, эти черты на самом деле не менялись. Например, когда ко мне домой заявилась полиция и сказала, что мой восьмилетка только что сбросил десяток яиц из окна пятого этажа на Вест-Энд-авеню, я сразу узнала в нем того годовалого малыша, который раз за разом опрокидывал на пол тарелку с зеленой фасолью, потому что это ой как весело.
В те времена — еще раз подчеркну, речь не о девятнадцатом веке, а о том, что было всего несколько лет назад, — никто не верил, будто бы можно изменить характер ребенка. Педиатр Томас Берри Брэзелтон, последователь Спока, ставший популярным в 1980-е, придерживался теории Пиаже. В его книгах младенцы делились на три категории: активные, средние, тихие. Он никогда даже не предполагал, что малыш-тихоня сможет стать активным, и наоборот. Ваш ребенок — это ваш ребенок: если он сводит вас с ума, так тому и быть, а если лежит в колыбельке и со счастливым видом разглядывает мобиль — значит, так будет всегда.
Все изменилось примерно в то же время, когда у меня появились дети. Возможно, виновато во всем женское движение с его постулатом о равной ответственности за детей: ведь женщины, как и мужчины, вскоре после рождения ребенка выходили на работу. Так появилось гендерно-нейтральное слово «родительство», и воспитание превратилось в нечто большее, чем бесконечные часы качественного времени, из которого оно обычно состоит. А может, наоборот, во всем виновата реакция на женское движение. Многим женщинам не хотелось возвращаться на работу и делиться обязанностями с мужьями, но они чувствовали себя виноватыми и в качестве компенсации сделали из воспитания пляски с бубнами.
Короче, однажды мы проснулись и поняли, что есть такая штука — родительство. Это было уже серьезно. И сложно. Родительство стало действием — активным, энергоемким и требующим самоотдачи. Практикующие родительство ставили ребенку Моцарта, когда он находился еще в утробе, отказывались от эпидуралки и кормили дитя грудью до тех пор, пока оно само не обучалось расстегивать маме блузку. А основывалось родительство на представлении о том, что ребенок — комок глины, из которого тяжелым трудом, поощрением и поддержкой можно слепить идеального человека, и однажды его обязательно примут в колледж по вашему выбору. Теперь родитель должен был уже не просто вырастить ребенка, а насильно закормить полезными знаниями, словно гуся для фуа-гра, модифицировать, настроить, подтолкнуть, улучшить. (Любопытно: то самое поколение родителей, которое свято верило в возможность вылепить идеального ребенка, придерживалось еще одной, противоположной теории — что все в человеке обусловлено генетически. Говорят, признаком интеллекта является способность удерживать в голове две противоречащие друг другу мысли, но что-то я сомневаюсь.)
Для достижения трансформации, которая и стала конечной целью родительства, понадобилась помощь различного дополнительного персонала — консультантов по сну, детских психиатров, обучающих терапевтов, семейных терапевтов, логопедов, репетиторов. При необходимости применяли также лекарства, «улучшающие поведение», которые случайно или неслучайно были изобретены в то же время, что и понятие родительства.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу