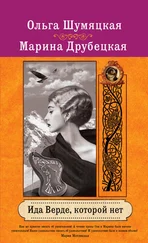— Вовочка! — крикнула я. — Постой!
Вовочка остановился. Я подошла. Вовочка стоял и не мигая смотрел на меня.
— Вовочка! — сказала я. — Ты что, меня не узнаешь?
— Узнаю, — довольно безразлично ответил Вовочка.
— Ты приехал? Надолго? Почему не позвонил? Как Ксаночка? Как вы устроились? Мы же даже адреса вашего не знаем! Уехали — слова не сказали! Ребята, между прочим, обиделись.
— Ксаночка хорошо, — невпопад сказал Вовочка. — Работает в юридической фирме. Купила квартиру в Нью-Йорке.
— Что значит «купила»? А ты? Ты что, опять без работы?
— Опять, — промямлил Вовочка. — Я… ты знаешь… в общем… ты не думай, она мне деньги присылает. И Мариночка каждую неделю звонит. Такая красавица стала! Вся в Ксаночку. Вот, посмотри, это она в университете. — Вовочка суетливо полез в карман и вытащил пачку фотографий. — А я к ним поеду, обязательно поеду. Вот устроюсь на работу и поеду в отпуск. Ты же знаешь, Ксаночка такая умница. А я что… я тут у мамы… — бормотал Вовочка и совал мне в руки потертые фотографии с заломанными углами.
Ночь покрылась звездными мурашками, и сразу похолодало. А что вы хотите — уже август. Уже дымы от костров стелятся по земле, уже яблоки падают с веток и в темноте кажется, будто по саду топает кто-то чужой и страшный. И вечерний чай пьют уже не в открытой трухлявой беседке, запутавшейся в виноградных побегах, а на застекленной веранде, освещенные окна которой — сцена, где разыгрывает свой спектакль театр семейных теней. Вот тень старухи с пузатым чайником наперевес. Старуха медленно качает головой, протягивает вперед руку, указывает, кому куда садиться, как Карабас-Барабас управляет своим кукольным царством. Вот тень мужчины. Он прихлебывает чай из высокого стакана, сидит, низко опустив голову, уткнувшись в толстую книгу. Старуха поворачивается к нему, что-то говорит, властно стучит кулаком по столу. Мужчина поднимает голову, встает, подходит к этажерке, ставит книгу на место, вынимает другую, снова садится за стол. Вот тень женщины. Женщина стоит. Суетливо переставляет чашки, хватает чайную ложечку, роняет, берется нарезать пирог, тут же начинает раскладывать варенье. Старуха машет на нее рукой. Женщина садится, вскакивает, снова садится. Вот тень девушки. У нее тонкие руки. Она закидывает их за голову, тянется лениво, словно ветка, полная сирени, в лунном свете. Старуха протягивает ей чашку, гладит по голове, не отнимая руки, проводит пальцами по шее, оправляет воротничок блузки. Разноцветные стекляшки окон заполняются другими тенями. Тени в медленном танце кружатся вокруг стола. Одна приближается к окну. Раздается легкий треск. Окно распахнуто. Голоса, вырвавшись из стеклянного плена, разбегаются по саду. Сейчас один из них выкрикнет его имя, и придется откликаться, идти на маяк, которым всегда была для него эта веранда, двигаться по курсу, который всегда прокладывала для него эта семья, причаливать к пристани, которой всегда был для него этот дом.
Михаил запрокинул голову и стал смотреть в звездное небо. Он стоял почти у самой калитки, в зарослях флердоранжа, широко расставив ноги и заложив руки за спину. Вот Большая Медведица. Он стал считать звезды. Слева направо, от ручки к ковшику. Семь штук. Справа налево, от ковшика к ручке. Семь штук. Если сыграть в «любит — не любит», то выпадет «любит». И справа налево, и слева направо. Если сыграть в «жениться — не жениться», то выпадет «жениться». Он сорвал зеленую, еще не созревшую ягодку флердоранжа, бросил на дорожку, придавил ногой. Ягодка тихонько крякнула, но хлопка не последовало. «Рано еще, — подумал Михаил. — В сентябре, нет, в октябре… В октябре, когда мы поженимся, они совсем спелые будут». Он представил, как они пойдут от калитки к дому, топая по осыпавшимся ягодам, а те будут взрываться под ногами свадебным фейерверком, и ему вдруг стало легко и ясно. Как будто не было последнего года, перелетов через всю страну за Уральский хребет, молчаливых встреч, молчаливых проводов, ночных телефонных звонков, молчания в трубку, старухиных вопросов, молчания в ответ… Как будто не было этой тягомотины с квартирой и с работой, и этого часа, когда, запрокинув голову и глядя в звездное небо, он решал то, что должен был решить давным-давно, тоже не было. Он засмеялся, повернулся к террасе, посмотрел на открытое окно. В окне Марина махала ему рукой.
Взглянув на нее впервые, он подумал: «Немолода!» И сразу: «Хороша!» Две эти мысли, столкнувшись, вызвали какое-то неприятное чувство. Будто ему суют никому не нужный товар, а он берет, и рад, и нравится ему, что она так немолода и так хороша в своей немолодости. Вроде как сам себя обманывает. Ну, положим, все не так немножко. И он не мальчик — тридцать два года. Пора, брат, пора. И она не так чтобы… да не старая, не старая. Двадцать восемь лет — в этом возрасте женщина еще почти девушка. Просто внешность у нее такая: много всего — и глаз, и волос, и смуглоты. И возраста. Возраст был ее неотъемлемой принадлежностью. Такие женщины девчонками не бывают. Ножки-ручки цыплячьи, грудка плоская, попка тощенькая — это не про них. Такие, как она, лет в тринадцать просыпаются одним прекрасным утром, откидывают одеяло и являются миру во всей своей женской зрелой прелести.
Читать дальше