Плацкартный вагон — теперь, увы, я езжу только в плацкартных! — казался темной пучиной, полной напряжения, натужных усилий, ругани и неразберихи... вот она, твоя теперешняя жизнь! С тоской я вспомнил ковровые дорожки «Стрелы», крахмальную чистоту уютных купе, солидных, воспитанных попутчиков. Все это, увы, в прошлом!
А тут — нет никаких купе, чтобы закрыться, отгородиться от хаоса, тут все вместе и вперемешку. В первом отсеке гортанно переговариваются кавказцы — зачем-то им по их таинственным, темным делам понадобилось вдруг на Север: поезд, на котором я еду, направляется через Петербург в Мурманск. Какое множество людей постоянно передвигается по России — с жуткими усилиями, с билетными очередями, с ором и напрягом! Второй отсек, где должно быть мое боковое нижнее место, наглухо — даже не протиснуться — забит клетчатыми клеенчатыми сумками. Ими буквально расплющены четыре хрупкие женщины интеллигентного вида. Тьма и теснота. Кто устроил бедным женщинам эту пытку? Сами они же и устроили: тюки их.
— Как бы тут пройти? — устав стоять с тяжелым багажом перед этой непреодолимой стеной, наконец спрашиваю я.
— А как? — беспомощно отвечает самая хрупкая и интеллигентная. Этот «Новый Лаокоон», самая распространенная скульптура наших дней: наши люди, сдавленные тюками, везущие что-то откуда-то, где это стоит рубль, туда, где это стоит рубль двадцать, — произведение величественное, но, надеюсь, не вечное? Надо же как-то двигаться — меня уже тычут в спину гитарами какие-то шумные юнцы: «Давай, дядя, уснул, что ли?»
Неожиданно на помощь измученным женщинам приходят кавказцы — с грубоватыми шутками (ай, такие женщины — и без мужчин!) они быстро и ловко распихивают узлы по углам, открывается проход — и моя узенькая боковая полка. Вот оно, счастье! После долгого бесприютного шатания по Москве, в этот раз какой-то особенно грязной и неуютной, которую, кажется, совсем перестали чистить и каждый переход улицы превращается в штурм Эвереста, после бесконечных переходов в метро, в каждом из которых ждешь взрыва (на «Белорусской» только что грохнуло), после долгого общения с бойкими москвичами, людьми совсем другой породы, чем мы, — какое блаженство: занять наконец место в тусклом вагоне, снять с плеча тяжелую сумку с пятьюдесятью экземплярами вышедшей в Москве книжки (так, экземплярами, платят теперь гонорар)... вытянуть усталые ноги, потянуться и, постепенно привыкая к темноте, начать разглядывать соседей... И тут понимаешь наконец: правильно распорядилась судьба! В битком набитом плацкартном вагоне, как ни странно, чувствуешь себя спокойней и свободней, чем в тесном купе. Здесь весь вагон — твое купе, все доступно твоему взгляду — и какое разнообразие лиц по сравнению со стандартными лицами начальников из дорогих поездов!
Женщины, расправившиеся с тюками, уютно устроились на полках и стали есть. Потекли запахи: курочка, соленые огурцы. И не обязательно есть самому: чувствовать запахи — тоже блаженство.
Дернувшись, вагон трогается. Полутьма, тихие уютные разговоры — и счастливое ощущение: ты находишься среди своего народа! А где, собственно, еще ты должен находиться? Даже запахи сырой одежды, усталого тела кажутся сладкими, навевают уют. И все чувствуют то же, и это объединяет всех: после долгой, трудной, а часто и рискованной московской беготни наконец-то — ощутимый, увозимый из Москвы результат, выстраданный отдых. Правильно сказал Евтушенко, которого можно считать конъюнктурным, а можно — очень точным и современным (что часто одно и то же): «А что такое счастье, наконец? Страдание, которое устало!»
И вот это счастье наступило в этом вагоне, и все ощущают его и наслаждаются им. Тихие разговоры...
— О! Белье взял! Миллионер?
— Пенсионер!
— А что — пенсия такая большая?
— Да ты что! Сам никогда бы белье не взял, да вот бабку свою к внукам везу — она у меня королева!
— Ишь, расхрабрился! — женский голос. — Лекарство лучше прими!
Всеобщее взаимопонимание, любовь.
И шумные кавказцы, которые, казалось, будут разбираться на непонятном своем наречье всю ночь, вдруг успокаиваются и начинают укладываться. И даже беспардонная, наглая нынешняя молодежь, настроенная, кажется, бузить до утра, затихает: выкрики все реже, все тише — и молодые, как и все, чувствуют хрупкую гармонию, установившуюся вдруг в этом ковчеге, и подчиняются, растворяются в ней. Ей-богу, все, кто сейчас здесь, за свои дневные страдания и муки заслужили немножко покоя. Я ворочаюсь на своем узком, жестком ложе, заранее уже зная, что не могу заснуть в поездах, — и вдруг засыпаю.
Читать дальше
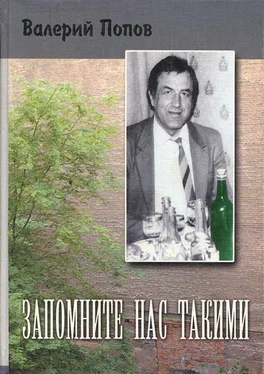

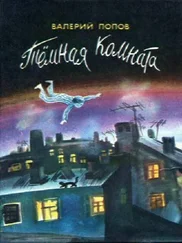
![Валерий Попов - Мой Невский [Прогулка по главному проспекту] [litres]](/books/398128/valerij-popov-moj-nevskij-progulka-po-glavnomu-pr-thumb.webp)
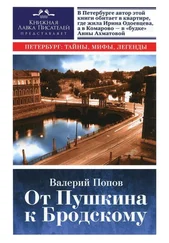
![Валерий Попов - Плясать до смерти [Роман, повесть]](/books/414370/valerij-popov-plyasat-do-smerti-roman-povest-thumb.webp)
![Валерий Попов - Избранные [Повести и рассказы]](/books/414376/valerij-popov-izbrannye-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)
![Валерий Попов - Любовь тигра [Повести и рассказы]](/books/414384/valerij-popov-lyubov-tigra-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)

![Валерий Попов - Южнее, чем прежде [Повести, рассказы]](/books/414392/valerij-popov-yuzhnee-chem-prezhde-povesti-rasskazy-thumb.webp)
