— Наша задача пока — осторожно посмотреть. Наблюдать, делать выводы. Никаких боестолкновений, никаких диверсий. Если нас заметят — тут же уходим. И вот тут нам дает преимущество проводник!
Андрей церемонно раскланялся.
«Клоун какой-то, — раздраженно подумал я. — И что она в нем нашла?».
Хотя я, разумеется, знал, что. Он проводник. Говорят, чуть ли не лучший в Мультиверсуме. А главное — он готов быть ее личным проводником. А я не готов быть ее личным оператором. Такая вот фигня.
— Они знают, что мы работаем с реперами, и не ожидают, что мы сможем уйти через кросс-локусы.
— Так что, ты с нами?
— А куда ж я, блин, денусь… — ответил я так, как от меня ожидали. Попробовал бы я отказаться! Если Ольга что-то хочет, она это получает.
Но я согласился не ради ее больших и красивых… Ну, например, глаз. Просто эту чертову войнушку надо заканчивать. Детей жалко.
— Ну, коммунары, готовы вопросы? — в отличие от нормальных лекторов, я не заканчивал лекцию ответами на вопросы, а начинал.
Так я давал детям время на осмысление того, что я рассказал в прошлый раз. Повод лишний раз подумать во время дежурств или трудовой практики. Это вряд ли сработало бы в моем бывшем срезе — слишком много медийных раздражителей и отвлекающего информационного шума, да и мотивация к процессу познания там целенаправленно блокируется специальными педагогическими приемами. Впрочем, там бы я и не смог преподавать. Я не переоцениваю свои педагогические способности.
В Коммуне же моя лекторская деятельность шла по разряду «общественной нагрузки» — самое обычное здесь явление. Почти все кроме основной занятости, делали еще что-то общеполезное — от разведения цветов на газонах и постройки детских площадок до спортивных секций и технических кружков. Ну и лекции, да — те, кому было, что рассказать детям, и кто умел это делать более-менее складно, выступали этакими «учителями-общественниками». На этом фоне я стал публичным лектором по расплывчатой теме «материнский срез — как там чего вообще», постоянно сползая на более абстрактные аспекты из области истории, социологии, антропологии и философии. А все благодаря детским вопросам, дисциплинировано записанным в тетрадочках карандашиками. Вопросам иногда наивным, но от этого не менее глубоким.
— Вы вчера говорили, что люди всегда воевали, и это для них нормально. А почему люди не могут не воевать?
— Доброе утро, Настя, — поприветствовал я белобрысое чудо, неизменно сидящее прямо перед лекторской кафедрой. — Это довольно сложный вопрос. Я хотел рассказать сегодня немного о другом, но, если всем интересно, можем обсудить и его.
— Интересно, интересно, расскажите про войну! — раздались голоса в аудитории.
Не знаю, как здесь обстоит дело у штатных учителей — давно собирался выяснить, но все как-то недосуг, — но у меня, как у «общественника», никакого «учебного плана» нет. То есть, могу рассказывать именно то, что детям интересно в данный момент. А поскольку сейчас у всех в голове война — то неизбежно будем возвращаться к ней снова и снова. Чем дальше я на это смотрю, тем отчетливее вижу, как быстро она меняет стерильный «заповедник хороших детей», которым до недавнего времени была — ну, или, по крайней мере, казалась, — Коммуна. И, черт меня побери, как же мне это не нравится! Здешнее небольшое общество не выработало иммунитета к идеологическим вызовам внешней агрессии, и война его необратимо изменит. Нет, определённо, ее надо как можно быстрее заканчивать!
— Что такое война? — начал я ab ovo 10 10 Ab ovo (лат.) — «от яйца». Устойчивый фразеологический оборот, обозначающий «с самого начала».
. — Давайте запишем определение: «Война является коалиционной внутривидовой агрессией, которая связана с организованными конфликтами между двумя группами одного и того же вида».
Дети послушно заскрипели карандашами в тетрадках.
— Ключевые слова «коалиционная» — то есть, в условиях объединения групп для общей цели, и «внутривидовая» — то есть, в пределах одного биологического вида. И то, и другое по отдельности встречается в природе довольно часто — и совместные действия (например — стайная охота), и внутривидовая агрессия (конкуренция из-за самок, к примеру). Но сочетание этих двух явлений характерно только для двух групп животных. И одна из них — приматы, к которым относимся и мы.
— А вторая? — спросил кто-то из детей.
— Муравьи, — ответил я. — В этом мы на них похоже больше, чем на любых других живых существ.
Читать дальше
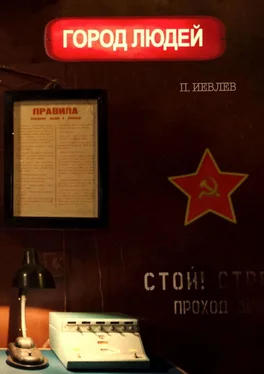

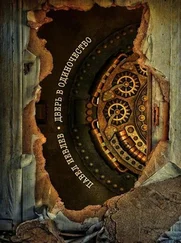
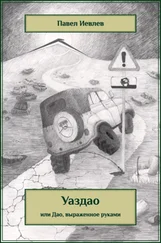
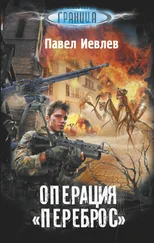


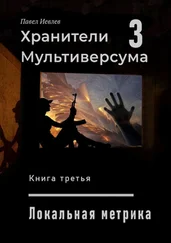

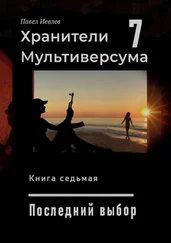
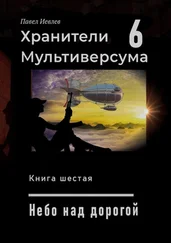
![Павел Иевлев - Адмиральский чай [СИ]](/books/407382/pavel-ievlev-admiralskij-chaj-si-thumb.webp)
![Павел Иевлев - Календарь Морзе [СИ]](/books/422995/pavel-ievlev-kalendar-morze-si-thumb.webp)