— Ну, ладно, — сказал я. — Но это — в последний раз! — и сел в скрипучее кресло между немыми ящиками.
* * *
Комната была обставлена пластмассовыми полукреслами и керамикой. Как на зарубежной выставке. У столика стояла женщина в узком платье в мелкую зеленую клетку. Ее почти заслоняла костюмная спина плотного брюнета. Я посмотрел ему в жирноватый затылок, и он нервно передернул ватными плечами. «Пижоны какие-то», — хотел сказать я вслух, но язык разбух и не ворочался. «Почему?» Но от вопроса меня сжало изнутри, и я понял, что лучше не вмешиваться и выключить себя. Я выключил и увидел девочку. Она сидела на полу и вырезала из журнала рыжую собаку.
Комната была продушена одеколоном и сигаретным дымом. Даже в прическе женщины слоился сигаретный дымок. Даже в ее пустых серых глазах.
— Не кричи и не бесись: больше ты меня не увидишь, — ровно сказала она, чуть шевеля бледно-малиновыми губами. Мужчина махнул короткой рукой и закричал. Я не разбирал слов, его невидимое, но мясистое лицо фальшиво кричало что-то благородное и трагическое.
А девочка сидела между ними на полу и вырезала из журнала рыжую собаку.
Женщина взяла со стола сумочку и вытащила бумажку.
— Вот квитанция за газ и за свет. За телефон уплачено в феврале, — сказала она. — Дай мне пройти.
Руки мужчины поднимались, спрашивали, отвечали, притягивали, отталкивали. Я хотел отодвинуть его темно-синюю круглую спину, чтобы разглядеть, кто это лежит у стола. Потом он отошел сам, и я наконец разглядел: у ног женщины на паркете лежала точно такая же женщина в платье в мелкую зеленоватую клетку и замшевых туфлях. Только лицо у нее было гипсовое, а посреди лба было аккуратное пулевое отверстие. Одна стояла, поправляя прическу, а другая лежала. Мне казалось, что убитая даже более, как это сказать? — материальна, что ли, чем живая. Ее убил, конечно, этот делец. Но когда?
А девочка все вырезала свою собаку. Теперь она перешла к хвосту и наклонила голову набок от усердия, потому что хвост был пушистый и его было трудно вырезать.
— Пропусти-ка меня, — сказала женщина, и мужчина отодвинулся. У него не было лица — гладкое место вроде живота, ни глаз, ни носа, только мокрый рот.
— А деньги? — спросил рот. — На что ж ты жить будешь, истеричка?
Но женщина не ответила. Она шла к двери прямо на меня. С каждым шагом ее тусклые серые глаза становились прозрачнее и больше от граненой светлой решимости. Она прошла сквозь меня, через дверь и ушла совсем.
Девочка кончила вырезать собаку и положила ножницы на паркет.
— Красивая, правда? — спросила она. — Ее зовут Чарли. Чарли, лежать!
Ей никто не ответил. В комнате никого не было. Потом я заметил мужчину. Он сидел на том месте, где лежало тело, и пил прямо из горлышка коньячной бутылки. Бульканье переходило в рыданье и опять в бульканье, а лицо его непонятно менялось: прорезались и западали глазки, щеки и лоб то тупели, то морщились от нежности и страдания, а потом опять вместо лица блестел голый живот, и сквозь кожу пробивался плач, и мне хотелось то ударить его, то догнать ту женщину…
— А теперь вырежем кота, — сказала девочка. — Его зовут Пик. Да?
Но ей никто не отвечал.
* * *
— Ну, сегодня вы вели себя тихо, — сказал Адам, когда я, потягиваясь, поднялся с кресла. — Интересно?
— Не очень… А вы не видели?
— Я? Нет, это невозможно — вместе видеть. А что там было?
— Пижоны какие-то, бросили ребенка, обычная история, — сказал я. — Но что-то было… Черт-те что… Как это — две женщины? Двойники?
Рука с чайником застыла над стаканом, водянистые глазки прокалывали меня неистребимым любопытством.
— Двойники? — повторил Адам.
— Похожи очень. Даже каблук на туфле одинаково сбит. Одна живая, другая — мертвая.
Адам поставил чайник на стул.
— Одна из них — это мысли. Представление.
— Кого?
— Того, кто там был, — сказал Адам. — Не ваши. Понимаете?
Но я не хотел ничего понимать.
— Там, — Адам кивнул на аппараты, — мысли материализуются в образы. Понимаете?
Я опять кивнул. Я подставил стакан.
— И мне налейте…
От кипятка выступили слезы. Я раздавил сахар языком и пососал сладкий сироп. Мне хотелось все забыть поскорее. Адам пил чай мелкими глоточками, иногда с беспокойством поглядывал поверх стакана. Но больше он ничего не спрашивал.
* * *
Было уже больше двух часов, когда я ложился спать. В желтом свете моя конура казалась совсем ободранной, бессонной.
Читать дальше
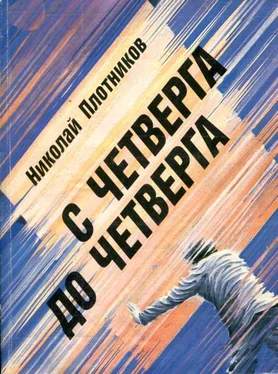
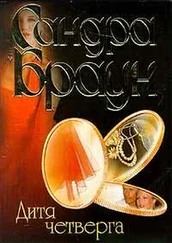



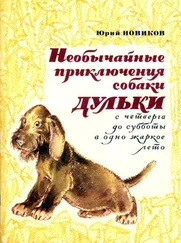



![Крис Райландер - Проклятие неудачного четверга [litres]](/books/393005/kris-rajlander-proklyatie-neudachnogo-chetverga-litr-thumb.webp)


