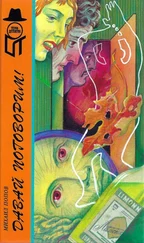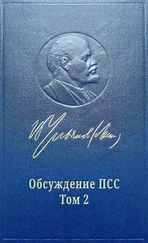Николай был не первым в этих рядах и начинаниях, но уж серьезным работником второго призыва считаться мог. Во время летних вакаций трудился наборщиком в виленской типографии, где пеклись прокламации и книжки полезного белорусскому делу характера. Был курьером на недальние расстояния, подвизался и по другим мелочам, иногда вкладывал и свою формулировку в кипевшие меж просвещенными белорусами дискуссии.
И вот конец университету, и тут начинается непонятное для волковысских родственников. Вместо того чтобы сделать первый реальный шаг в карьере — устроиться хоть на подхвате при серьезном месте в столице, — Николай уезжает из Петербурга. И не в Вильну, и даже не в Гродно. Родственники были не рады и, главное, не очень понимали смысл того, что он им сказал в объяснение такого поведения — мол, он получил образование не для радостей личной удачи и славы, а чтобы отдать все силы и знания родному забитому народу белорусскому.
Родственники расстроились. Однако спорить с Николаем было трудно: он был трезвенник, выглядел серьезным, мог смутить своей речью любого неосторожно с ним заговорившего о значительных вещах. Собирая ошметки каких-то прежних сведений, зять Смурага осторожно заметил: страдать за народ — дело хорошее, но делать это лучше все же на какой-нибудь государственной должности с последующей пенсией. Вон хотя бы Франтишек Богушевич — «Дудку белорусскую» он сладил, но в конце славного пути борец с самодержавием сидел на солидной должности судебного следователя. А тут совсем другой поворот — фольклор. Какие-то припевки и запевки, что девки горланят на гулянках, или те хитрые тихие сказки, что бабки беззубые залепляют в уши неспокойным внучкам: «спи!» На это денег зятья давать не хотели. Отец тоже не хотел, дочки тихо уговорили оставить Коле хоть чуть. Тот усмехался: сам заработаю.
Надо сказать, что в это время Николай Норкевич от сбора звучащего фольклора уже отходил, сузил фронт работ за народную память и стал добиваться успехов в области собирательства белорусского бытового и ритуального орнамента. Эта работа, помимо прямой патриотической пищи, давала ему еще возможность озвучить старую языческую ноту в его душе. Это же поле непаханое, крепко зафиксированное своеобычие тутейших жителей.
Сначала Николай Норкевич обследовал дома селян поблизости от мест, где доводилось учительствовать, а он официально шел по линии общественного просвещения, то есть учительствовал. При минимальных окладах пребывал, и его перекидывали с места на место нередко. А он только радовался. И на Витебщине побывал, и в Давид-Городке на припятском берегу, и в Буда-Кошелеве, а под Зельвой, что в родной Гродненской губернии, женился. Попал на постой в дом самобытного, серьезного хозяина, Петра Порфирьевича Сидоровича, и пропал. Тут орнаментальных вышивок, тканых узоров, половиков с осмысленной расцветкой было бесконечное количество. А еще пасека, десяток коров. Дочка Сидоровича Марьяна была очарована речистым, немного нелепым на фоне сельской местности парнем, и у них как-то ясным летним вечером сладилось. А там что же — женись, выбора нет. Марьяна быстро и как-то жадно забеременела, расплылась и больше уж в прежние границы возвращаться не собиралась. И уезжать из сытого отцовского дома не думала. К месту нового перевода Николай поехал один. Навещал, конечно. Родилась дочка. Назвали Данута. Почему такое однозначно польское имя? Если бы Норкевича спросили прямо, он бы ушел от ответа. Выскочило как-то само собой. Возможно, это был первый приступ той маскировки, что сопровождала учителя Норкевича всю вторую половину жизни и только крепла с годами.
Дело в том, что, являясь бывшим студентом столичного российского университета, вернувшись домой, он обнаружил, что в тех образованных кругах, где ему неизбежно теперь придется вращаться, царит хоть и необъявленное, но полное польское владычество и, если не хочешь трудной, обреченной жизни, подстраивайся. Протестовать официально — нелепость. Тем более что никаким проводником российской имперской идеи учитель Норкевич ни в малейшей степени не был.
Хочешь заниматься белорусскими народными промыслами на территории, где привыкли себя чувствовать единственным реальным народом пани поляцы, — терпи, маскируйся. Тем более что обнаружилось, что многие царские чиновники считали правильным быть в хороших отношениях с польским обществом и по возможности ему не перечить. Иногда Норкевичу удавалось завести отношения равноправные и даже приятные с польским семейством — хотя бы с теми же Порхневичами (это после поездки с Витольдом из Петербурга на родину), — но оказывалось, что эти поляки, при всем их стремлении быть настоящими поляками, все же чуть не дотягивают до признанного стандарта польскости.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу