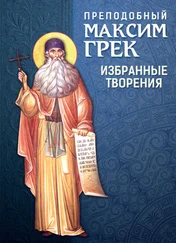А потом все стало болью. Сплошной, надрывающейся. Но крик уже не вырывался — в рот словно залили раскаленное железо. Тела он не чувствовал — мышцы опали, стерлись, перестали слушаться. Кто-то иной, тот, который сам по себе, сочинял музыку в его голове. Для кларнета и струнных.
Время передвигало гири. В какой-то момент он все же дал себе отчет: операция кончилась, и он, кажется, жив. Сознание прилетело назад и осторожно примостилось где-то неподалеку.
Мир заново формировался из хаоса.
Почему-то он теперь помнил, хотя был почти все время в беспамятстве, что на соседней койке весь вчерашний день стонал мужчина. Сестры называли его между собой майором. Сегодня, как только стемнело, его увезли в морг. Стоны прекратились. Лапшин мысленно простился с ним. Простился до скорой встречи на небесах. Думал: если уж такой сильный человек, военный, по всей видимости, фронтовик, не выдержал, куда уж мне.
Майор! Майор…
Еще до операции ему сказали, что у майора, как и у него, язва и ему также необходима резекция желудка.
Тот, кто вместо него писал все это время в нем нечто для кларнета и струнных, испарился. Длинная мелодия, состоящая из нескольких мотивов, — раздолье для будущего контрапункта. Она осталась. Она не забудется. Она скрепляет его изможденное тело.
Она как веревочная лестница, по которой он поднимется в спасительные небеса. Земные небеса.
Дверь открылась. Появилась санитарка. Подошла к нему, присмотрелась. поняв, что он не спит, осведомилась, не нужно ли ему чего. Ему ничего не было нужно.
За все дни, что он провел в больнице, его никто не навещал.
В прихожей квартиры Норштейнов — Храповицких теснились четыре человека. Очень близких и очень далеких.
«Надо что-то предпринять, — решил Лев Семенович, — иначе Арсений просто уйдет».
Норштейн обратился к замершей Светлане тоном подчеркнуто бодрым:
— Ну что, мы так и будем Сенечку здесь, около двери, держать? В ногах-то правды нет. Да и согреться ему надо.
Светлана от голоса отца ожила, сделала два быстрых шага к гардеробу в прихожей, достала из него деревянную вешалку с металлическим крюком и протянула сыну. Потом снова застыла, наблюдая. Арсений снял дубленку, повесил ее на плечики, предварительно засунув в рукав шапку и шарф, потом присел на табуретку и стащил с себя сапоги. После этого поднял глаза, робко прищурился и, глядя в стену, сказал:
— У папы инфаркт. Он здесь. В Москве. На Ленинском. В Бакулевском институте. Его вызывали два дня назад в ЦК партии. Он поехал. Больше ничего не знаю. Известно только, что его обнаружили на Старой площади лежащим на тротуаре без сознания. До или после беседы это произошло, пока неясно. Вчера утром мне позвонили и сообщили, что у него инфаркт. Состояние тяжелое. Он пока еще в реанимации. Я сразу же на поезд и сюда. В Бакулевский. К нему, понятно, никого не пускают. Но сказали, что самое страшное позади. Хотя, возможно, они всем родственникам так говорят. Вот теперь решил к вам.
Пока говорил, ни разу не взглянул ни на кого из родных, а те не перебивали.
Увидев, что на его слова никто никак не среагировал, Арсений изменился в лице, все его мышцы напряглись, и он поднялся с табуретки, чуть помедлил, потом опять сел. Взял сапог и стал натягивать его.
— Ты что? — удивился Димка.
— Пойду, наверное. Все я вам рассказал… — голос старшего сына Храповицких дрогнул.
— Нет. Никаких «пойду». Я не пущу тебя. Отдохнешь — потом вместе поедем к отцу. — десятиклассник оказался тверже и мудрее взрослых.
— К нему все равно не пустят. — Арсений закончил с одним сапогом и взялся за второй.
— Вот и узнаем, когда разрешат его навещать. Как разрешат — навестим. Ты должен остаться с нами. Куда ты теперь пойдешь? — Димка сжал губы.
Арсений узнавал и не узнавал младшего брата. Последний раз они виделись, когда Димка заканчивал первый класс. После этого мальчуган никогда не встречался ни с братом, ни с отцом. И вот теперь рвется к папе в больницу. Все странно, все необъяснимо. Как и всегда в жизни. Они давно должны были стать ему с отцом чужими, а то и просто исчезнуть из сознания, из памяти, закрашенные темными штрихами обиды. Но не исчезли!
— Света, дай Сене что-нибудь на ноги! Дима, быстро поставь чайник. Человек замерз… — Лев Норштейн, как и многие интеллигенты, сталкиваясь с непредвиденными обстоятельствами, ненадолго терялся, но потом безоговорочно брал инициативу в свои руки и уже не отпускал.
Дима Храповицкий поспешил на кухню. Все было не так, но при этом как надо.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу