«Свинья ты!»
Ефрейтор Бухмаер в нескольких шагах от меня. Его лицо искажено яростью, в неправдоподобно ярком лунном свете я отчетливо вижу, как трясутся его губы, когда он кричит: «Свинья ты!» Возле меня он останавливается. Прицеливается из карабина, который я весь день видел у него в руках, эта штука ему дана ведь не для забавы, я уверен: он думал то, что говорил. Вспышка молнии, сухой треск бича, остро и горячо вонзающегося мне в грудь, справа, ближе к плечу, и опрокидывающего меня навзничь. Что же это? Он действительно выстрелил, мой симпатичный ефрейтор Бухмаер? Нацистская сволочь, проклятый фашистский боров, ах, я никогда не умел как следует ругаться, есть же совершенно великолепные, такие выразительные ругательства, в которые можно вложить всю свою разрывающуюся от злости и ненависти душу, мне они никогда не приходят на ум, волнение заставляет меня в лучшем случае заикаться, у меня нет ничего посильнее для тебя, Бухмаер, чем вот это: ты подлейшая нацистская свинья, и я страстно надеюсь, что скоро с тобой кто-нибудь расквитается за все.
«Спокойно, спокойно! Вам нельзя так метаться, вы сорвете бинты! Что случилось? Неприятный сон приснился?»
Это, наверно, доктор. Тот же голос, который раньше говорил о физиологическом растворе. Теперь он говорит, что я вышил. Что я уже вне опасности. Это вы так говорите, доктор, потому что думаете только о тех опасностях, которые можно преодолеть с помощью ваших хирургических инструментов. Но до тех пор, пока там, за столом, сидят полицейские, сменяясь каждые восемь часов, — кстати, опять появился новый, сколько их, собственно, уже перебывало здесь, все сплошные Бухмаеры, — до тех пор я не могу быть вне опасности.
Да, полицейская охрана. Доктор кажется немного смущенным.
«Таково было распоряжение, тут уж ничего не поделаешь. Когда в больницу доставляют кого-нибудь с огнестрельным ранением, мы обязаны сообщить куда следует. Это ведь не только личное дело, не правда ли? Впрочем, и прежде был такой порядок. Скверно лишь, что теперь этим занимаются немцы. Распоряжение охранять вас, мой друг, поступило из комендатуры, я говорю все, как есть. Они занимаются расследованием всех подобных случаев, нетрудно догадаться, что их тут интересует — конечно же, не снижение французской уголовной статистики. Они нервничают, господа немцы. Все время что-то случается, каждый день, в особенности каждую ночь. Такой уж этот сонный провинциальный город Мелэн. Вы здешний? Нет? Так я и думал. Все коммуникации, соединяющие Париж с югом, Лионом и Средиземным морем, сосредоточены здесь — железнодорожные линии, шоссейные дороги, судоходный путь через Сену. Здесь мосты, сортировочные станции, административное управление. Мы находимся достаточно близко от Парижа, в пятнадцати километрах, чтобы представлять интерес для центра, и достаточно далеко, чтобы иметь самостоятельное значение. Это ясно немцам, но и некоторым другим людям тоже, не так ли? Да кому я рассказываю все это? Простите, я не хочу тем самым приписать вам что-либо. Я даже не знаю, что вообще с вами случилось, знаю только, что в нынешние времена тот, в кого стреляли, — не обязательно подозрительная личность. По мне, можно было обойтись и без донесения. Я кое о чем догадываюсь. Но о том, что вас сюда доставили, сразу же узнали десятки людей. Это слишком много. Не хочу сказать, что кто-нибудь выдаст нас. Супружеской чете, которая вас подобрала, вы, бесспорно, обязаны жизнью — им-то зачем доносить? И все же амбулаторный персонал, больничный сторож, персонал хирургического отделения, остальные пациенты — многовато посвященных. Ну, не надо волноваться. До сих пор ни один немец не справлялся о вас. Если что-нибудь изменится, вы об этом так или иначе узнаете. Пока что вы еще совсем нетранспортабельны. С медицинской точки зрения почти чудо, что вы живы. Знаете ли вы, где лежите? Это палата безнадежных пациентов, для которых летальный исход неизбежен. Теперь мы могли бы вас перевести отсюда, но, я думаю, лучше оставить вас пока тут, сюда меньше заходят, и это безопаснее».
Супружеская чета, которая подобрала меня, — что это значит? Как это было? Маленький дом на краю далеко растянувшегося селения, закрытые ставни, злобно лающая собака. Я падаю от изнеможения на что-то мягкое, может быть на навоз, верхний слой которого высушили солнце и воздух. Но раньше ведь было что-то с водой, я плыл к мерцающему огоньку. А еще раньше — я должен, должен вспомнить! Бухмаер стреляет в меня, свинья эдакая. Я падаю навзничь, в голове мелькает то, что я слышал или читал о психологии умирающих. В миг смерти, утверждают умные люди, вся жизнь молниеносно проносится перед нашим умственным взором. Пытаюсь следовать этому. Не получается. Я во власти одной-единственной, всепоглощающей мысли: проклятье, умереть после всего, что не могло сломить меня, и как раз теперь, когда скоро все будет иначе, лучше, разумнее, когда мы могли бы быть счастливы, когда я опять мог бы быть вместе со своими близкими, о которых ничего не знаю — где они, живы ли, — которые не знают, где я, и никогда не узнают, как я умер. Вот что промелькнуло в моей голове, в самом деле молниеносно, хотя и не в соответствии с утверждениями тех умных людей. Затем — провал. Потом я пришел в себя. И первое, что я осознал: по коже расползается что-то липкое, я коротко и учащенно дышу, с трудом втягиваю воздух, и он не наполняет легкие, а со свистом выходит наружу. Поставить себе диагноз было нетрудно: прострелено легкое. В том, что это означает, я не отдавал себе отчета. Но мне казалось совершенно невероятным, чтобы человеку, решившему с расстояния в несколько шагов застрелить другого, не удалось осуществить свое намерение. Выстрел, несомненно, смертельный. Я умру в ближайшие секунды или минуты. Остается только одно: ждать, пока умру. Удивительно, что я лишь слабо ощущаю боль. Я думал, умирать страшнее. Если бы только не эта тяжесть в голове, если бы кровь не растекалась так неприятно по коже. Может быть, попытаться остановить ее? Не имеет смысла. Конечно, не имеет, и я вовсе не потому хочу попытаться, что надеюсь выжить. Просто чтобы кровь так не растекалась. Как все это вообще выглядит? Я слегка приподымаюсь, вот уже сижу, осматриваю себя, но мало что вижу. На мне пиджак, его удается сбросить. Берусь за рубашку. Ах так, она продырявлена, пиджак, наверное, тоже, как и должно быть. Вижу свой живот, он измазан кровью. Как выглядит спина, могу себе представить. Скручиваю рубашку в скатку, обвязываюсь ею — справа через плечо, слева пропускаю под рукой. Кажется, теперь закрыты места, откуда вытекает кровь, и она течет не так сильно. Это я сделал неплохо. Конечно, не для того, чтобы выжить. Нет? А почему, собственно, нет? Где это сказано, что выстрел, которым хочет тебя прикончить какая-то нацистская свинья, непременно должен быть смертельным? Нигде не сказано. Пока ты жив, незачем доставлять своему убийце удовольствие, думая о себе как о мертвом. И вот еще что — извини, но в порядке исключения я заговорю о принципах чуточку патетично — ты не имеешь права сдаваться, пока в тебе теплится хоть искра жизни, ты коммунист, а коммунист не сдается никогда!
Читать дальше
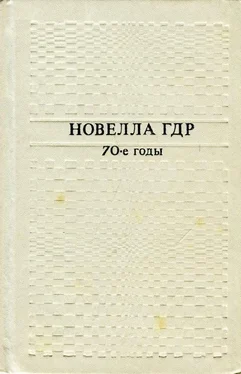





![Юозас Балтушис - Проданные годы [Роман в новеллах]](/books/201531/yuozas-baltushis-prodannye-gody-roman-v-novellah-thumb.webp)


![Петра Вернер - Неожиданный визит [Рассказы и повести писательниц ГДР]](/books/414133/petra-verner-neozhidannyj-vizit-rasskazy-i-povesti-thumb.webp)
![Франц Фюман - Первый миг свободы [Рассказы писателей ГДР]](/books/414134/franc-fyuman-pervyj-mig-svobody-rasskazy-pisatelej-thumb.webp)

