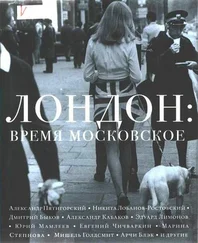— Во дает! Сын Рейгана! Чего же молчал-то, а?! — и полез целоваться к Рейнгольду.
А тот давился слезами от хохота и только кивал в знак согласия, что он сын Рейгана.
В Москве стояла золотая осень, и Шпагину казалось, что он теперь сидит в Нью-Йорке, в осеннем Нью-Йорке, стоит лишь выйти на улицу, как увидишь залив, статую Свободы и небоскребы. Он даже пропел куплет из известной песни Вилли Токарева, где были такие слова:
Небоскребы, небоскребы,
А я маленький такой…
— А помнишь, старик, капитана Кофмана? — вдруг спросил Рейнгольд, закуривая «Мальборо».
В памяти Шпагина возникла сутулая, совершенно не военная фигура капитана Кофмана, который был «покупателем», то есть приезжал в Москву за новобранцами, в числе которых были и Рейнгольд со Шпагиным, только что познакомившиеся в фойе клуба на Профсоюзной, куда призывников свезли со всей Москвы от своих военкоматов.
— Какой еще такой капитан? — спросил Пашка.
— Мы в армии вместе служили, — сказал Шпагин, намазывая на хлеб с маслом черную икру.
— Екалэмэне! — воскликнул Пашка и обратился к Рейнгольду, который положил ногу на ногу и развалился на диване: — Ты что, советским был?
Рейнгольд опять расхохотался, он хохотал и никак не мог понять: Пашка на самом деле такой тупой или прикидывается.
— Был! — сказал Рейнгольд. — И сплыл!
Пашка промолчал, засопел носом и полез руками в кастрюлю за индейкой. Вытащив приличный кусок, он сунул его Рейнгольду.
— Жуй! Поправляйся! — сказал Пашка. — Это тебе не Нью-Йорк, едрена вошь! Это тебе — Москва-матушка!
Рейнгольд нехотя принял кусок белого мяса и положил его на тарелку. Облизав пальцы, сказал:
— Эх, Пашка, тут у тебя лучше, чем в Нью-Йорке… Да что там говорить, — Рейнгольд взмахнул рукой, — тут у тебя самый настоящий Нью-Йорк!
Пашка просиял от такого неслыханного комплимента и опять полез обниматься к Рейнгольду, который стучал по его спине рукой и молчаливо, с совершенно серьезным лицом вопрошал Шпагина, мол, что дальше с этим художником делать?
Наобнимавшись, Пашка уныло обвел взглядом стол и грустно проговорил:
— Эх, Нью-Йорк, Нью-Йорк, а выпить-то нечего, — затем, после небольшой паузы, добавил: — Неужели в Нью-Йорке выпить нечего, а?! Не может такого быть!
— Я же говорил, нужно было взять еще, — сказал Рейнгольд Шпагину и взглянул на часы. — У вас в Москве до каких торгуют?
— До семи, — сказал Шпагин.
— Уже опоздали, — вставил Пашка, вглядываясь в свете свечей в циферблат своих часов.
Рейнгольд резко встал, прошел к двери, надел куртку и кепочку и сказал Шпагину:
— Пошли!
Пашка в предвкушении новой порции выпивки просиял.
После выпитого и Рейнгольд, и Шпагин были возбуждены. Рейнгольд в лифте сказал:
— У тебя девиц знакомых нет, выписал бы!
Шпагин моментально сообразил и нажал на клавишу «стоп», лифт остановился как раз на пятом этаже. Там на стене висел коммунальный телефон. Шпагин позвонил Маринке, она была дома и сразу же согласилась подъехать.
— С подругой! — крикнул Шпагин.
— Зачем? — спросила Маринка.
— Для американца! — крикнул Шпагин.
У подъезда поймали черную «Волгу». Сели на заднее сиденье.
— И все же, — сказал Шпагин, — чем ты занимаешься?
Рейнгольд улыбнулся.
— Делом, — сказал он.
Шпагин понял, что Рейнгольду не очень-то хочется рассказывать о своем житье-бытье в Нью-Йорке.
В машине наступило молчание. Шофер выскочил на Ленинский проспект и по команде «Стоп!» остановился у дома, в котором жили родители Рейнгольда. Машину не отпустили. Когда поднимались в лифте, Рейнгольд сказал, что маму зовут Валентина Ивановна, а отца Семен Исаакович. Имя матери Шпагин забыл напрочь, а вот отчество отца — Исаакович — помнил. Однажды отец Рейнгольда приезжал в Остров, в часть, где они служили, на своей «Волге», с оленем на капоте, друзей по этому случаю отпустили в увольнение, и он катал их до Новгорода и обратно.
Дверь открыла Валентина Ивановна и, увидев Шпагина, всплеснула руками.
— Как вы, Митя, постарели! И эти усы… У вас, по-моему, раньше не было усов?
Шпагин смущенно пожал плечами и сказал:
— Не было.
Он не помнил, сколько раз бывал в гостях у Рейнгольда после армии, не помнил лица матери, не помнил этой квартиры. А вот мать Рейнгольда его хорошо запомнила.
Прихожая была завалена дорогими кожаными чемоданами. В комнате, что располагалась напротив кухни, штабелями стояли магнитофоны «Сони», ну, штук двадцать магнитофонов. На кровати лежал раскрытый чемодан, доверху заваленный женской косметикой и бижутерией. Возле чемодана высилась стопка голубых джинсов в полиэтиленовых фирменных пакетах.
Читать дальше