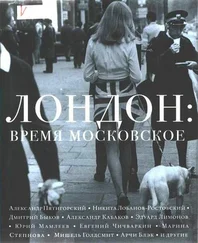Маше я отдал диплом бабушки об окончании гимназии, дневник с отметками. В нем есть интересная пометка: «Во время уроков разговаривает и смеется». Я живо представил Наденьку: она смеялась не только на уроках, а всю жизнь, и главное — терпеть не могла того, что осуждал А. П. Чехов: тупость, мещанство, хамство, рабство, пустоту душевную, наглость и прочее, и прочее. Вот почему она охотно, из последних сил занималась со школьниками, чувствуя, что она делает настоящее дело, при этом и сама училась, все время читая Станиславского, Горчакова и др. Словом, она была молодец, и притом в такие годы, как 70 лет! Ей можно во многом подражать.
Кончились конфеты. А мне без них — «труба». Не могу без хорошей конфеты пить чай. Не могу также засыпать без хорошего чтения: например, Канта, Бердяева, Чехова и др.
6 февраля, суббота.
Саша ушел в библиотеку, а оттуда — на экзамен по русской драматургии. Купил 350 гр. шоколадных конфет «Мишка».
Вчера была Маша, взволнованная. И меня не на шутку разволновала: принесла привезенную из Америки отцом товарища (дипломатом) книжку В. В. Набокова «Приглашение на казнь». И давай рыться в бабушкиных бумагах в поисках писем Н. Меня бросило в жар. Я не своим голосом заявил, что письма уничтожил. И для свидетельства показал страницы этих записок, где говорил о Н.
«Как тебе не совестно, дедушка! — вскричала Маша. — Чего ты боишься! Одной буковкой Н. Владимира Дмитриевича называешь!»
И пошло и пошло.
Вдруг в папке, где лежали письма Москвина, Качалова, Тарасовой к Наденьке Петровне, обнаружила визитную карточку: «Владимир Дмитриевич Набоков», а затем и несколько записок и писем. «Я их возьму себе! — сказала Маша. — А то ты все от страха уничтожишь!»
В этот момент я видел перед собой не внучку, а Наденьку Петровну — так Маша походила на нее и лицом, и темпераментом, и жестами.
Было всего два письма, три записки и две визитные карточки. Маша взяла первое письмо и принялась в волнении быстро читать вслух:
— «3 января 1917.
У нас Новый год начался довольно мрачно, 24-го заболел корью Володя…» Это же тот Володя, который будет знаменитым писателем! — вскричала Маша и продолжила: — «…а через несколько дней Сережа и Ольга последовали его примеру. Под Новый год у нас был настоящий лазарет. Обычно, конечно, корь — пустячная болезнь но у Володи, после двух тяжелых воспалений (в 1909-м и 1915-м гг.), легкие не очень надежны, и потому, особенно страшны осложнения с этой стороны. Корь у него протекает гораздо тяжелее чем у других, с бронхитом и „пневмоний-ными узлами“, и мы еще не спокойны, т. к. каждый день температура днем повышается (31-го — 39, 6°). Пока уцелел Кирилл, но вряд ли он уцелеет окончательно. В результате „праздники“ (если вообще можно говорить сейчас о праздниках) вышли хуже будней. Когда Володя поправится, его повезем недели на три в Финляндию. Это будет не раньше конца января.
Ваше письмо я получил вчера, придя на службу. Спасибо за поздравления: у Вас сохранилась эта милая традиция, и я постараюсь вовремя поздравить Вас с 19-м. Если Вам суждено еще приехать в П., надеюсь, что Вы не остановитесь в „Аст.“, где мы с Вами видимся точно на большой дороге. С точки зрения разных Ахиллесовых пят это, может быть, и к лучшему, но все-таки гораздо приятнее и уютнее было видеться с Вами в „Европейской“ и даже в „Селекте“. Правда, это дороже, но, „принимая во внимание“… и т. д., это соображение не должно бы Вас беспокоить.
Вы пишете: „Ради бога не подумайте, что в этом письме есть хоть капелька кокетства…“ Милая, где же тут кокетство, когда Вы так решительно заявляете о своих чувствах. И раз они Вас не мучат, а Вам „весело и хорошо“, то и слава Богу. Но все-таки — неосторожно „играть с огнем“ — и Вам, и мне. А мы в последний раз словно задались целью испытать стойкость наших нервов или вообще „задерживающих центров“. Это — такая игра. Ведь „рецидив“ ничего бы не принес, кроме унизительного разочарования…
Увы, книжку Репнина давно уже основательно выругал в „Речи“ Философов, причем за Нарбута заступился Бенуа, а мне уже поздно заступаться за Репнина. Книжку я получил, совершенно не знал, от кого. Постараюсь ее прочесть. Может быть, она меня очарует.
Между прочим, Гришинская Вас видела и назвала моей сестре, которой очень хотелось Вас рассмотреть, но она стеснялась. До свидания, целую ручки.
Ваш В. Д. Н.»
Маша принялась за другое письмо:
— «23 июля 1917.
Мне грустно и обидно, что поездка в Москву расстроилась и что я Вас опять невольно обманул и огорчил. Вы теперь уже знаете, что это независимо от меня, что мне по необходимости пришлось здесь остаться, и что весь съезд перебирается сюда… И мне совестно, что Вы напрасно хлопотали. Пожалуй, я еще и должен Вам за номер: это было бы совсем нелепо… Надеюсь, Вы мне скажете, если это так. Мне очень, очень хотелось Вас видеть после Вашей тяжелой болезни. Теперь — Бог знает, когда мы свидимся. Думаю о Вас с печалью, вспоминаю с нежностью. На днях в деревне целый вечер слушал в граммофон Панину — и так пахнуло старым, пережитым. Господи, как давно все это было! „Что прошло, то будет мило…“ Вспомнились теперь эти беззаботные поездки в Москву, ужин в кабинете „Метрополя“, какой-то пальмовый сад, где мы почему-то сидели на 1-й неделе поста и пили шампанское! Ваша квартирка в Полуэктовом, такая уютная и славная… Господи, как давно все это было, — и как тогда всем легче и лучше жилось, и как кошмарно все, что сейчас кругом делается.
Читать дальше