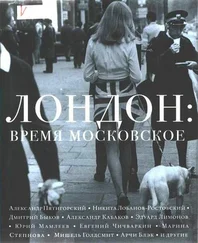— Вот сходи к Лизавете Васильевне, уплати, да и закругляйси. Чего зря деньги переводить! — И, подумав, добавил: — Уж сам можешь кого-нибудь на музыке учить… Мда…
В тесной комнате Лизаветы Васильевны, где резко пахло пылью от старых ковров, которые висели на стенах и лежали на полу, на диване и на кровати, было сумрачно, и, когда Везувий вошел, лицо Лизаветы Васильевны показалось ему очень бледным и каким-то несчастным.
— Дочь умерла в больнице, — сказала низким, прокуренным голосом Лизавета Васильевна, и ее большие навыкате глаза подернулись слезами.
Когда Везувий возвращался домой, то думал о том, что если люди жили бы в одиночестве в маленьких домах по лесам, то никто бы никогда не узнал, что они жили там и умирали, а тут все друг другу рассказывают о смертях близких, поэтому становится грустно и вспоминаешь о том, что сам ты когда-нибудь умрешь, конечно, не очень скоро, даже совсем в неизвестные времена, так что думаешь, что жить будешь всегда.
У помойки бумаги несло ветром по асфальту. Вороха бумаг змеиными шлейфами выныривали, казалось, отовсюду, даже из зелени деревьев, взметались, как снежные вихри у домов. Везувий схватил на лету плотный лист, увидел склоненные вправо и влево знамена, золотистые профили Сталина и Ленина. То был чистый бланк грамоты, внизу — печать, гербовая, и подписи фиолетовыми чернилами. Везувий уставился в печать и медленно прочитал: «Общество глухонемых».
Дома Иван Степанович, нахмурив брови, возился с дратвой, подшивал свои рабочие валенки. Рядом, на полу, стояли старые галоши, огромные, как резиновые лодки. Взглянув на эти галоши, Везувий почувствовал тошноту и боль в животе.
Он увидел золотокоронную жабу в белом халате. Жаба долго мяла живот и домяла до того, что болеть стало везде. Дрожащей рукой Везувий заполнил бланк грамоты: «Жабе».
Холодным зеркальным блеском мелькнула огромная лампа.
От колбы шла резиновая коричневая трубочка к его локтю. «Это кровь», — подумал Везувий и заснул.
Утром увидел на животе толстую марлевую повязку, в которой была щель, откуда торчал белый плотный хвостик, как гвоздь из доски. Везувий осторожно прикоснулся к нему и ощутил шевеление в кишках. «В животе дырку оставили!»
— Вона что! — протянула мама. — Это тебя наркозом укачали! То и говорят, смерть как бы одна минута. Ну, заснул… А уж в раю очнулся.
XIV
У дяди Володи стол уже был накрыт, и, взглянув на него, Везувий подумал о том, что здесь всегда какая-то праздничная обстановка, не то что у них. Первую рюмку выпили с большим аппетитом и молча, как бы смущаясь чего-то, принялись закусывать.
Лиза, взрослая, красивая, с тонкой талией, подошла к Везувию и положила ему руку на плечо. Он проглотил ложку салата, почувствовав на языке вкус свежего огурца, и недоуменно поднял на двоюродную сестру свои большие темные глаза.
Когда они танцевали, Везувий чувствовал, как бугорки крепких грудей касаются его — ощущение было столь ново, что казалось одновременно и приятным, и мучительным.
Юрик лениво вышел погулять во двор, жаловался, что от чтения голова разламывается, — Я ни одной книжки не читал! — необдуманно выпалил Везувий чистую правду: в семействе Лизоблюдовых книг стыдились.
Юрик посмотрел на Везувия с таким выражением тупости, как будто перед ним стоял столб.
— Потрясающе! Надо запомнить твою фамилию. Как фамилия? — вопросил он с долей придурковатости.
Ах, это! Везувий улыбнулся, машинально произнося: — Лизоблюдов!
Юрик в каком-то ошеломлении застыл и стал бледнее, чем был до сих пор. Везувий смутно догадался, что произошло что-то нехорошее, но что именно, он не понял.
— Ты вдумайся, лизоблюд — это тот…
Пока Юрик развивал свои мысли о лизоблюдах, Везувий медленно краснел и покраснел до того, что стало жарко, душно. Впервые Везувий ощутил свою слитность с фамилией, с этой кличкой, с этим оскорбительным словосочетанием: «Лизоблюд!»
Неужели ни отец, ни мать не замечали этого?! Куда же смотрит царица небесная, которую мать упоминает, куда смотрит Бог, которого — знал Везувий — нет (в школе говорили!), но все же — куда смотрит, раз мать на него молится, рот своей зевающий выкрещивает?! А? Скажите!
— Мы еще, бывает, под себя маленько подпущаем… — сказала мама, а старший пионервожатый оглядел Везувия и, словно убедившись в бытии такого, уже достаточно взрослого мальчика, натужно улыбнулся.
За обедом Везувий выловил из супа все «твердое», а жидкое оставил. Когда сумерки опустились на лагерь, зажглись огни и дело шло к отбою, Везувий одиноко сидел на скамье, от которой пахло еловой смолой, и в смутной истоме думал о чем-то неопределенном. В двух шагах от него возник темный силуэт, в котором Везувий узнал ту самую девушку, которая когда-то стучала своими каблуками в пустом метро — дук-тиу, дук, дук. Тот звук Везувий, взволнованный и бледный, услышал и сейчас.
Читать дальше