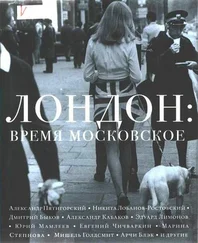ПЬЕСА ДЛЯ ПОГИБШЕЙ СТУДИИ
Слышно, как вдали стучат топором по дереву.
А. П. Чехов. Вишневый сад
— Есть другая реальность: воспоминаний, картин, обобщений, духа! — крикнул, встал и заходил долговязый Волович. — Подробности…
— Парийский может по этому поводу речь толкнуть, — предложила Инна, укладывая ногу на ногу.
Парийский, в очках, в белой рубашке с короткими рукавами, в сандалиях на босу ногу, откинулся к спинке стула.
Он, подумав, сказал:
— Читал Ницше. Настолько самоуверенно, бессвязно, с той самой «поэзией», с которой я в контре, что, кроме иронии, ничего не вызывает. — Он на мгновение остановился, глядя на расхаживающего Воловича, и продолжил: — Хотя очень недурно написано. Захватывает… Все это дионисийство давно выродилось в хамство, пьянство, проституцию… Лирой воспевал желудок! Если Ницше сравнить с Аввакумом, то Ницше кажется просто фигляром рядом с глубоко серьезной и трагичной фигурой первого русского писателя. Как можно бороться с идеализмом, если идеализм — единственное, что отличает человека от животного!
Алик Петросов, пошатываясь, появился из правой кулисы с огромным телевизором «Темп» в руках, подошел к рампе и остановился, часто шмыгая своим внушительным крючковатым носом. Он стоял на краю сцены, как над пропастью. Экран телевизора засветился: толстощекий мужик в модных очках, говорить не умеет, сплошное «так сказать» и ни к селу, ни к городу — «народ, народ».
— Очень низка культура, — сказал Алик, напряженно сутулясь под весом телевизора. — А ведь претендует на роль проповедника. Хоть бы раз написали о деревне, как в свое время сделали это Бунин и Чехов! Честно: рвань, грязь… А то — сопли в квасе, и морда от водки лоснится. Если мне, тысячекратно русскому, это противно, то каково же остальным?!
Волович резко взмахнул рукой:
— Стоп! Это делать нужно иначе, — быстро заговорил он, обращаясь к Алику тоном просителя. — Ты из жалости к себе не можешь смеяться над окружающими. Критика твоя исходит оттого, что ты не прощаешь, а все помнишь. А нужно забыть! В конце ты все забываешь, но начинаешь сначала: углубляешься в расчеты с Парийским. Ребенком ты жил, не зная ничего о жизни, только Парийский подавлял знанием!
Инна усмехнулась. Парийский заметил:
— Перепады настроения. Как это важно! Любой человек живет этими настроениями. Как не может быть всегда хорошо, точно так же не может быть всегда плохо.
— Да поставь ты телевизор! — сказала Инна.
Алик пошел, тяжело переставляя ноги в кедах, в глубину сцены, где стояла солдатская койка, покрытая серым одеялом с двумя широкими белыми полосами в ногах. Алик поставил «Темп» производства 1957 года возле спинки койки, подумал и сел на него, уперев локти в колени.
— Хорошо! — воскликнул Волович. — Мы обрастаем подробностями, в которых вся соль. Быть во власти сюжета — значит галопом проскакивать по эпизодам. Идти от эпизодов, не заботясь о сюжете, на мой взгляд, путь более правильный.
Лицо Инны выхватил луч прожектора.
— Фабула: я — есть все, — сказала Инна, вставая со стула. — То есть все во мне, и я могу (могла быть) каждым. Не навязчивая идея, а степень погружения в историю, как в жизнь конкретных людей, точно таких же по природной своей сути, как я. Меня всегда интересовал вопрос, почему сознание «вдувается» в конкретного человека. Почему мое сознание не «вдуто», допустим, в Алика?
Инна держалась гордо, на лице были красные пятна.
Из левой кулисы появился простоватый человек с лестницей-стремянкой. За ним, сильно хромая, с прямой ногой, длинноволосый малый лет двадцати. Было видно, что малый, хромая, наигрывает. Простоватый человек — Поляков, светловолосый, с широким полноватым лицом — остановился в середине сцены, раздвинул стремянку и полез вверх. Все заметили, что Поляков был босиком.
Пока он лез по высокой лестнице к колосникам, двадцатилетний малый — Клоун (такое у него было прозвище) — хромал вокруг этой лестницы с видом умалишенного, чем вызвал хохот Волови-ча, смех Парийского, улыбку Алика и легкое возбуждение Инны.
С сильным грузинским акцентом, шепелявя, Клоун сказал:
— Жизнь идет своим порядка. На Хамовническом плац смотрел верховой упражнений. Мне очень нравилось смотреть на лошадей. Конюхи их чистил. Одну лошадь кузнец подковывал.
Из-за сцены донесся звук удара металла о металл. Голова Полякова исчезла в колосниках. Видны были лишь босые ноги на верхней перекладине лестницы. Послышался голос Полякова:
Читать дальше