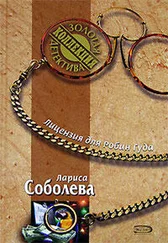Эна Трамп - Возвращение Робин Гуда
Здесь есть возможность читать онлайн «Эна Трамп - Возвращение Робин Гуда» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Год выпуска: 2018, Издательство: Array SelfPub.ru, Жанр: Современная проза, Контркультура, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Возвращение Робин Гуда
- Автор:
- Издательство:Array SelfPub.ru
- Жанр:
- Год:2018
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Возвращение Робин Гуда: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Возвращение Робин Гуда»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Возвращение Робин Гуда — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Возвращение Робин Гуда», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
– Но тут уж они мне не помощники, – сказал он.
Хотя на самом деле, после смерти бабки, они несколько раз подкидывали и денег («отдашь, когда сможешь»). Но тут была скользкая тема. Например, бабка, когда умерла Матвеева мать (он был еще маленький; еще даже до школы), отказалась перебраться к своим племянникам, считая их жуликами, только и мечтающими наложить лапу на двухкомнатную квартиру. О чем они там на самом деле мечтали – квартира осталась за Матвеем. Зато участок с домом, где раньше бабка жила с дедом, отошел-таки к этим двум дядьям! Так что Матвей, при желании, мог думать, что от него пытаются, задним числом, откупиться.
– Потому что они считают, что бабка продешевила, – сказал Матвей, – и боятся, что и я так считаю. – А ты как считаешь, – спросил Николай. – А я никак, – сказал Матвей. – Не хотелось бы во все это ввязываться. – Он помолчал. – Противно не то… – сказал он, – и даже не то… – сказал он, – …а то, что они теперь передо мной юлят. Заискивают. Выступают, в общем, в не свойственной для себя роли. Они же нормальные мужики. – Они, по бабкиному ходатайству, отмазали Матвея от армии. Матвей рос, в общем, самостоятельным хлопцем, с бабкой не церемонился; благо, та была вполне бестолковая: старая. Ничего она не понимала, зато и не мешала (почти); воспитывать же Матвея отказывалась напрочь, о чем осведомляла всех желающих – от соседок у подъезда – до родительских собраний: «Носится… як метэор. Куды мне с ним!..» У нее были свои способы ладить с миром: Матвея – называть сиротой, «Ну; а кто? Сирота и есть. Чаго ты кипяцишся?!..»; себя выставлять немощной и глупой. Что она хорошо делала, так это – ездила в огородик, закатывала банки, рогалики пекла. Ну вот и пусть бы закатывала. И тут поднапряглась – вывезла.
– Ты теперь должен дать им по ебальнику, – сказал Николай.
– С какой… – начал Матвей, но Николай его перебил. – Нет, ну прикинь, картина: здорово, племянничек; мы тебе рыбки накоптили!.. а ты подходишь: дядя Юра! Нна! Дядя Петя! и тебе того же!.. Раз они, как ты говоришь, нормальные мужики, то это их должно излечить от всех сомнений по твоему адресу. Ты их этим освободишь от долгов, они сразу станут естественными. Я так думаю, вы славно разберетесь, прямо в прихожей. Я только боюсь, ты не справишься. Может мне тебе помочь?
Матвей не улыбнулся. Он сказал, вороша тонкой палкой костер: – Они могли просто обмануть ее. У меня же была эта отсрочка, как у единственного кормильца. И тут – раз, это обследование, почки. Сначала наехать на нее – ты старая, скоро умрешь, а ему – перестройка, дедовщина. Ужас. Флак! – (Это он щелкнул языком.)
– А может и не было у них никакой сделки, – сказал он. – Это только мои домыслы. Может они документы подделали. Или ее отравили, а перед этим заставили подписать. Поджигая пятки керогазом. Откуда я знаю, я же у них не спрашивал.
– Ладно, – сказал Николай. – Насрать. – Матвей, отучившись год физике, бросил университет и ушел из дому, то есть уехал, и год провел, как это водится, между собакой и волком, в столицах и Прибалтике. Потом он вернулся. Потом бабка заболела и умерла, а Матвей поступил на филфак. Когда другие уже заканчивают. – Там действительно дедовщина и ужас. По крайней мере, это выгодная сделка.
– Ну да, – сказал Матвей. – И что мне там нечего делать. Да и аксессуары… дача… машина… Они же приглашают меня сюда жить сколько и когда захочу. По закону тут все их!.. но по совести мое, и это все-таки доказывает, что у них сохранились остатки совести. А это очень неудобно. Жить надо либо по совести, либо без, – но людям же недостаточно выбрать что-то одно, им подавай все. Вот их и ломает. Тем более, что они сразу так высоко забрали в этой своей демонстрации родственных чувств: какие они мне там родственники! Я их до 18 лет раза три видел. Ясно, им это не по плечу. Они надорвутся, если будут и дальше так тянуть. Морально надорвутся. Им уже должно просто не терпеться – когда у меня наконец облетит пух, и пропадет эта моя желторотость, и я, заматерев, начну уже что-то вякать – и можно будет с облегчением отпустить тетиву.
Он замолчал. Потом, почти одновременно они повернули головы. Новый дом белел, выступал из темноты – словно, безмолвный соглядатай, проходил мимо и остановился за спинами, послушать разговор. Матвей первым отвернулся. – …У них своя правда. Конечно, – сказал он. – Как муравьи. Вечно тащат откуда-то куда-то, …теют. Считают, хитрят… Совесть совестью, а справедливость тоже есть. А по справедливости это их владения. Они так считают. Они же у меня мои книги не отбирают, правильно? Они мне скорее нравятся, я же говорю, они нормальные мужики. – Дом был внутри весь желтенький, Матвей говорил. Стены, пол, потолки – все было обшито деревянными лакированными планками, вроде паркета. Но круче. Только он был слишком большой для этого крохотного участка. Как здоровый детина на трехколесном велосипеде. Они хотели снести старый дом, но не стали, чтобы было где жить, пока большой дом был закрыт – уезжая, они запирали его на ключ. А, приезжая, открывали и начинали стучать и ковыряться внутри – достраивать. А потом может баню сделают в старом. По-любому было понятно, что Матвей им тут на самом деле совершенно ни к чему. Даже если его и терпят до поры – как терпят щенка или чужого ребенка, лезущего под руку, когда занят делом, – пока наконец терпение не лопается. Тем более, что что это такое, крутили-мутили, ходили, хитрили, наконец – все! похоронили! А вдруг оказывается, она не умерла, тусуется здесь под боком, то и дело, вздумав, там, пойти за хлебушком, на нее натыкаешься, – глядящую из глаз Матвея. (А тебя не спрашивают 1 Хорошо тебе скакать, она – не она. Не она. Уж поверь мне. Кому это знать лучше. Иной раз кажется, ты тут один живой, все остальные из пластилина, уж настолько не врубаться… Может быть и незачем если они созданы в качестве декораций с узкой и утилитарной функцией и в ожидании спокойно прислоненные к стене один за другим стоят за сценой… И она такая была. Теперь все. Не исправить. Если не дрочить на спиритизм, не дурачить себя, не затем мы здесь собрались, чтобы в бессмысленных действиях растечься, наткнувшись на непроницаемую поверхность. Стоять в тупом недоумении, схватившись за грудь. Тяжелым камнем на месте ее отсутствия.
.) Кто-то из них – скорее, младший, Петя, – первым это обнаружил, и, на исходе долгого рабочего дня, как выплыло в памяти, так и выложил братцу, – тот призадумался, жуя… Но, и прожевав, и проглотив, не мог ничего ответить; Матвей ставил их в тупик; они уже и сами не могли понять, зачем и как случилось, что они его сюда пригласили. Чего они ожидали? – но точно – не этого, не того, что он будет ходить здесь, молча, ничего не спрашивая, за водой, едва не задевая своим круглым задом их, занятых в это время какими-то подсчетами, и поэтому тоже выставивших свои зады, облокотившись на хризолитовый столик во дворе, – не того, словом, что он воспользуется их предложением буквально. То есть, если бы он, скажем, сразу схватился им помогать. Вот что они подразумевали, к о г д а п р и н и м а л и е г о в р о д с т в е н н и к и! – одновременно и заискивая, но в большей, гораздо большей степени гордясь проявленным великодушием: бери! твое (то есть наше) – на новых, значит, условиях. А он не принял этих условий, он вел себя не как родня, а как старый слуга, упорно не желающий замечать перемен, продолжающий быть верным умершему хозяину, – зная, при этом, что его уволят. Ну, вот его и уволят.
Интервал:
Закладка:
Похожие книги на «Возвращение Робин Гуда»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Возвращение Робин Гуда» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Возвращение Робин Гуда» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

![Лариса Соболева - Последнее дело молодого киллера [= Лицензия для Робин Гуда]](/books/30801/larisa-soboleva-poslednee-delo-molodogo-killera-thumb.webp)