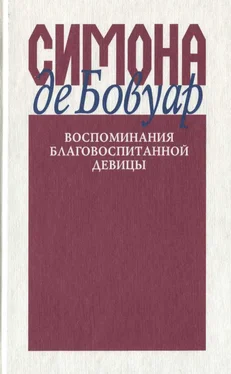Мои припадки ярости пугали взрослых. Мне выговаривали, но наказывали нестрого; по щекам меня били крайне редко. «Симону нельзя тронуть: она становится лиловой», — говорила мама. Один мой дядя, потеряв терпение, просто отошел в сторону; я была так ошеломлена, что моя истерика мигом стихла. Думаю, укротить меня было несложно, но родители не принимали мои выходки всерьез. Папа, пародируя кого-то и шутя, любил повторять: «Это некоммуникабельный ребенок». Еще про меня говорили с ноткой гордости: «Симона упряма как осел». Я этим воспользовалась и начала капризничать; я не слушалась исключительно ради удовольствия не слушаться. На семейных фотографиях я запечатлена то с высунутым языком, то повернутая спиной; а вокруг все смеются. Эти маленькие победы научили меня, что все преодолимо: правила, общепринятые нормы, обыденность; в дальнейшем это переросло в своеобразный оптимизм, который выдержал все испытания.
Что касается моих поражений, то я не чувствовала после них ни унижения, ни злобы. Устав рыдать и кричать, я капитулировала, и у меня не оставалось сил обижаться; иногда я даже забывала, из-за чего бунтовала. Мне становилось стыдно за свою выходку, и, не находя себе оправдания, я мучилась угрызениями совести. Но прощения я добивалась легко, поэтому угрызения рассеивались быстро. В конечном счете, мои вспышки компенсировали несправедливость навязываемых мне законов; они избавляли меня от молчаливого, злопамятного смакования обид. Всерьез я никогда не сомневалась в правомочности власти. Поведение взрослых казалось мне подозрительным только в той мере, в коей отражало сложность моего детского положения. Собственно, именно против него я и восставала. Но догмы и ценности, которые мне внушались, сами по себе протеста во мне не вызывали.
Два главнейших понятия, на которых строился мой мир, были Добро и Зло. Я жила в обители Добра, где, неразрывно связанные между собой, царили счастье и добродетель. Я знала, что такое незаслуженная боль: это когда я ушибусь или оцарапаюсь. Или когда однажды у меня на лице прорвался нарыв, и доктор прижег все гнойники ляписом; я кричала. Но подобные неприятности быстро забывались и не могли поколебать моей веры: радость и горе являлись воздаянием людям по их заслугам.
Постоянно соприкасаясь с Добром, я скоро узнала, что у него есть градации и нюансы. Я была хорошей девочкой, но случалось, совершала ошибки; тетя Алиса много молилась и, без сомнения, должна была отправиться на небеса; это, однако не помешало ей отнестись ко мне несправедливо. Среди людей, которых мне полагалось любить и почитать, были такие, кого мои родители осуждали. Даже бабушка с дедушкой не могли избежать их критики, потому что были в ссоре с родственниками, которые часто виделись с мамой и очень нравились мне. Я не любила слово «ссора»: оно ассоциировалось у меня с хрустящими крошками под ногами. Почему люди ссорятся? Как? Мне казалось, что ссориться жалко. Я открыто принимала мамину сторону. «У кого вы вчера были?» — спрашивала тетя Лили. «Не скажу, — отвечала я, — мне мама запретила». И они с мамой обменивались долгим взглядом. Иногда бабушка с дедушкой тоже позволяли себе нелестные замечания в мамин адрес: «Что твоя мама, все по гостям бегает?» Их недобрые слова больше вредили им, чем моей матери, но не уменьшали моей к ним привязанности. Я находила вполне естественным и в некотором смысле успокаивающим, что эти второстепенные в моей жизни персонажи были не столь безукоризненны, как высшие божества: Луиза и мои родители, обладавшие исключительным правом на безгрешность.
Огненный меч разделял Добро и Зло. Со Злом я никогда не сталкивалась. Порой голос моих родителей становился жестким; по их негодованию или возмущению я догадывалась, что даже среди наших близких знакомых встречаются черные души; я не знала, кто они и в чем их вина. Зло держалось на расстоянии. Злодеи для меня были сказочными персонажами: дьявол, злая фея Карабос, Золушки-ны сестры; я никогда не видела их во плоти и потому судила о них по их сущности. Злодей грешит так же естественно, как огонь горит, и нет ему ни снисхождения, ни прощения. Ад — это место, где он живет, пытка — его участь, и было бы святотатством с моей стороны его жалеть. По правде говоря, раскаленные железные башмаки, в которые гномы обули Белоснежкину мачеху, или пламя, на котором поджаривается Люцифер, никогда не вызывали у меня видений истязаемой плоти. Людоеды, ведьмы, демоны, мачехи и палачи были лишь абстрактными символами неведомого мне мира, а их страдания — абстрактной иллюстрацией их заслуженного наказания.
Читать дальше