В городе кипел коммунистический ленинский субботник: громкоговорители на столбах шепеляво бубнили всякие бодрые лозунги, разобрать которые было очень трудно, а в перерывах разливались по округе песни про молодость, революцию и весну. И еще одну помню: «Мы старая гвардия первой пятилетки, мы молодая гвардия, мы вечно будем молоды и вечно будем жить»… Я понимал, что поющие тетки знают: это все неправда, они не будут жить вечно, поэтому ужасно злятся. Их голоса были металлические, неживые, очень похожие на голоса измученных жизнью мам, приходивших за детьми в садик и ругающихся отчаянно и безнадежно.
Мы шли через площадь, мимо высокого серого памятника Ленину. Рядом с памятником стояли несколько мотороллеров с небольшими кузовами, в них чернела земля, а из нее торчали коротенькие цветы. Рассаду привезли, сказала бабушка. Коротенькие цветочки она называла — «клоксы». Цветы действительно свисали к земле белыми и розовыми клоками.
Через годы я узнал, что это были вовсе не флоксы, а другие какие-то цветы, более ранние.
Женщины в черных халатах и рабочих варежках-голичках сажали разноцветные «клоксы» у подножия памятника.
— Хоть до первого мая прожили бы, и то хорошо, — ворчала бабушка. — Оборвут ведь, вытопчут нехалюзы.
— Кто оборвет?
— Кто, кто… Известно, кто — те самые, которые у Райки сирень воруют. Парни все оборвут. Зазнобам своим. Да повытопчут половину.
Первого мая в горсаду каждый год начинались танцы на огороженной площадке, и цветы у памятника Ленину становились очень даже востребованными егорьевской молодежью. Девушки охотно принимали от «кавалеров» эти цветы, совсем коротенькие, сорванные без утайки прямо на их, девичьих, глазах. И девушки говорили парням спасибо. Конечно, принимали девушки и купленные в магазине цветы, но, в общем, как-то невесело они их брали, покупные цветочки-то. Было это как-то не по-людски, что ли, «не как у всех» — тратить деньги на букет. В этом некий вызов общим правилам чувствовался, мол, «я тут самый хороший, самый комсомольский, я у Ленина цветы не отбираю». А ни одной девушке не хотелось, чтобы у нее был парень «не как у всех». Сорви, когда милиция не видит, или перелезь через забор за чужими цветами — вот тогда все нормально, все как у людей. Все такими были, такими и надо быть всем.
Под Пасху наконец-то потеплело, а то было холодно, и бабушка сказала мне:
— Завтра обязательно солнышко будет, потому что так и говорят: Светлый день, Пасха. Никогда еще такого не было, чтобы на Пасху пасмурно или дождик.
— Никогда-никогда?
— Никогда, Сашик.
А под вечер бабушка вдруг принялась снимать из углов избы все иконы. Карабкалась на стул с витою спинкой, пыжилась, вынимая коричневые доски из застекленных киотов под самым потолком.
— Зачем, бабушка? — спрашивал я.
Бабушка хмурилась.
— В церкви сказали, что банда какая-то в город приехала, иконами промышляют. Вот сегодня ужотко вечером дождутся, когда все в церковь уйдут, и станут в дома к старым людям залезать, иконы воровать.
Я смотрю на непривычно пустые киоты, словно ослепшие, а не то так и помертвелые. Мне страшно. А как же я? Вот залезут к нам бандиты, а я дома один, бабушки нет, она в церкви… Меня же они пытать будут: где, мол, иконы, пацан?
Я очень хочу попроситься в церковь с бабушкой, на ночную службу с крестным ходом, с песнями, но не могу заставить себя сказать ей об этом. Почему? Бабушка, наверное, обрадовалась бы.
Но она тоже не говорит ничего, не зовет меня в церковь. Значит, не положено мне.
Она относит иконы к соседям, к Князевым — уж про них-то бандиты не подумают, что есть у них старинные иконы. Да и в церковь тетя Марина с дядей Мишей не ходят. Дома будут смотреть какое-нибудь хорошее кино по телевизору — на Пасху всегда хорошее кино среди ночи показывают, мне Пашка сказал.
Но даже в голову не приходит мне попроситься на ночь к Князевым, чтобы тоже посмотреть хорошее кино.
Потом бабушка долго молится шепотом перед зажженными лампадами и выцветшими картонными иконочками, одевается празднично: красная шерстяная кофта с бантом на груди, шоколадного цвета жакетка, юбка темно-синяя. И еще бабушка прицепляет косу, которая всегда лежит на комоде, за часами. Это ее собственная коса, отрезанная когда-то давно, может, еще тогда, когда волосы у бабушки были пышными, длинными и не седыми… Я видел эту косу на бабушкиной фотографии 1926 года, когда бабушке исполнилось двадцать лет. И вот теперь эта коса — опять с нею, убрана в клубок на затылке, сколота красными костяными дореволюционными шпильками.
Читать дальше






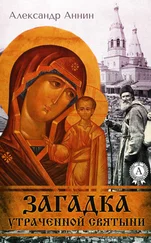





![Александр Аннин - Бабушка [журнальный вариант]](/books/428162/aleksandr-annin-babushka-zhurnalnyj-variant-thumb.webp)