Страшно представить, что ждало бы Германию, если бы не фюрер!
Солому уложил у стены ровным валиком, где надо взбил, распушил хорошенько. И особенно на том месте, где лежит этот бандит. Но кто на это обратит внимание? Кто и когда ценил честность и добросовестность немца? Вот когда что-то не так у тебя, без вины виноват, все заметят, а потом, в другое время в твою сторону и не глянут. Но отчего беды, неудачи всегда липнут именно к Отто Данке? Почему легко жить бессовестным, таким вот, как Герман Хехтль? Скалит зубы, кривляется, свинячая собака! А Отто не до того, ему бы как-то совладать с дрожащими руками, и губы, щеки вдруг стянуло, стали как чужие. Скорее бы уже, ну что они так кричат, воют? Скорее бы всему конец! Лицо перекашивается, одеревенело, и эти руки еще – сейчас все увидят, заметят, вот сейчас снова будут смотреть на бедного Отто, на неудачника Отто!..
* * *
Из будущих исследований, материалов о гипербореях:
«Излюбленный и самый неотразимый их аргумент: «Мы предупреждали!» – после чего гипербореи считают себя вправе делать с другими все, что подскажут злоба или месть, властолюбие или корыстолюбие. Но самый главный их подсказчик – обида. Так мучительно, невыносимо перед всеми и всегда быть правыми! И потому они постоянно и заранее обижены на тех, кого им надо убить, замучить, обобрать. Всегда помнят лишь собственные убытки и кто, когда причинил зло или неудобство им. Но сразу и навсегда забывают зло, которое они причиняли другим. Они прямо-таки потеют справедливостью, правотой своей перед всеми и во все века!
«Мы предупреждали оппозицию!..» «Мы предупреждали вьетнамцев, пусть пеняют на себя!..»
«Как они могли, неужели это правда, то, что вы рассказываете о Хатыни?» – нет, это уже не немец спрашивает, верит и не верит, а турецкий журналист. В ту минуту он совершенно искренне не помнил, забыл о такой же резне в армянских селах еще в 1915 году. Как объяснить эту способность людей, народов помнить одно и не помнить другое? И возможность быть человеком и гипербореем одновременно. Или – сегодня человеком, людьми, а завтра уже гипербореем, гиперборейцами!..»
* * *
Уже перестал бить последний пулемет, уже затихло гумно, совсем затихло, и хорошо слышны стали жадные, жирные всплески пламени, черный треск и чавканье в клубах грязно-желтого дыма. И тут вдруг медленно, как во сне, стали расходиться, раскрываться ворота. Видно, сорвали сумасшедшей стрельбой все запоры-завалы, потому что давно никто уже не бился, не напирал изнутри и никто из ворот не вышел, не выбежал. Каратели, вначале насторожившиеся, когда поняли это и поверили в полный порядок и тишину за воротами и стенами, начали постепенно отступать подальше от огня и приближаться к школе. Грязно-желтый дым все гуще наливался жирной смолью, тошнотная горячая вонь далеко к школе оттеснила, загнала офицеров.
И тут высокий «иностранец» в темной шинели, у которой полы по-бабьи подняты к поясу, заложены за ремень, вышел вперед и стал напротив распахнутых ворот. Прижимая ухо к собственному плечу, он взвел, направил висящий через плечо пулемет и ударил в клубящееся пламя гулкой длинной очередью. Запоздало, без нужды, просто от полноты душевной. А если иметь в виду присутствие штурмбанфюрера – то и с вызовом, нарушая порядок. Отгрохотал и осматривает свой пулемет, внимательно и неторопливо, словно он тут один и он единственный знает, что надо делать, как поступать. Все невольно переводили взгляд с него и на штурмбанфюрера – что-то произойдет сейчас! – и этим как бы связывали, связали их, Тупигу и Дирлевангера. Полицай наконец повернулся ко всем, и, наверно, ему показалось, что был, а он не расслышал приказ какой-то. Все глаза показывали ему на штурмбанфюрера, и Тупига прямиком пошагал к Дирлевангеру. Подошел и стал перед ним и даже ухо полуоторвал от плеча, полувыпрямил скособоченную шею, отчего ростом стал выше штурмбанфюрера: «Я здесь, раз ты звал зачем-то. Если для того, чтобы сказать спасибо, данке – что ж! Но от вас дождешься!..»
Оскар Дирлевангер в упор рассматривал жилистого высокого «иностранца» с косо висящим на груди русским пулеметом, явившегося к нему – не за поощрением ли? И не просит, а как бы требует чего-то – такие у него глаза. Да он что, на самом деле жить расхотел?
Тупига спокоен: прятать ему от Доливана нечего, весь он здесь со своим пулеметом! Пусть сачки шарахаются от этого немца, а Тупига ничего не просит, но и не боится никого. Если есть тут кто не сачок, не ловчила-бездельник, а, наоборот, мастер в своем деле, так это они двое, и никто больше. И Доливан, если не дурак, обязан это понимать. И понимает. Потому и усмехается и даже как бы подмигивает Тупиге. Пусть скажет слово, намекнет, и Тупига с удовольствием – одной очередью, одним разворотом! – повяжет и снопиками уложит этих сачков и дармоедов, что сгрудились, топчутся возле Доливана. Впрочем, и сам немец этот немного с придурью, и на него еще палка нужна: какую-то жидовку с собой таскает!..
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Алесь Адамович Каратели [litres] обложка книги](/books/410074/ales-adamovich-karateli-litres-cover.webp)

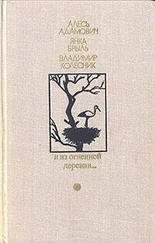

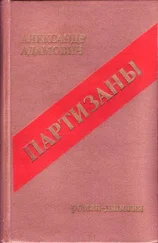
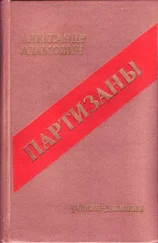



![Алесь Адамович - Пути в незнаемое [Писатели рассказывают о науке]](/books/420284/ales-adamovich-puti-v-neznaemoe-pisateli-rasskazy-thumb.webp)


