Киев после Германии поразил не развалинами и пожарищами (этого и в Германии насмотрелся, не говоря уже о Белоруссии и Польше), а безлюдьем. Казалось, что одни немцы да полицаи заселили город, их только и видишь и слышишь. Неужто правду говорила Оксана, что всех, кто с руками и ногами, вывозят? Совсем оголеет земля: то мор голодный, то вот это!
Но все равно это Киев, золотой, голубонебый. И куда ни глянь – Днепр! Пилотку сунул в рюкзак! Какой дурак придумал эти черепа с костями?
Нет, они не скажут ему ничего, батька с маткой – тихие они, только пошепчутся. Старший брат в глаза их «старосветскими помещиками» обзывал. «Вас еще Гоголь раскритиковал! Ну чего вы сидите всю ночь у окна? Кому нужен батька наш? Берут врагов, а не кого попало».
Мельниченко с Полем пешком добрались до киевской окраины, матеря здешние порядки. Мати с глиняной миской стояла на пороге, три курицы толкались у ее босых ног. Она с беспокойством смотрела на двух немцев, которые задержались у калитки. Испугалась по-настоящему, когда в одном признала сына.
– Батька, батька! – закричала громко и обидно. Будто на помощь кликала. А тот выскочил из сарайчика – худющий, с обвислыми усами, без очков (спал), ничего не понимает.
– Що ему трэба? – спросил он. – Нэси там яйки, чи що! А то курэй похватают.
Сын сказал:
– Добрыдэнь, мамо.
Подошел и привлек ее растрепанную голову, прижал к мундиру, чтобы не пялилась на него так. Но мать мягко его оттолкнула и сама взяла, боязливо притянула его обнаженную голову. И заплакала.
А Поль стоит напротив, распаренный жарой и шнапсом, широко улыбается – и черепа на его рукаве, на пилотке скалятся. («Нашли, черти, чем играть!») Совсем напугал старуху, когда схватил ее руку, все еще зажимающую сырой куриный корм, и неожиданно поцеловал.
А батька и того хуже! Совсем бабой сделался. Повернулся и побежал в халупу. Оказалось, за очками. Так и не поцеловались. И потом все косился, все не мог привыкнуть к мундиру. А сам про то все, что кого-то забрали, а еще повесили, и еще увезли в неметчину. Забыл, старый хрен, как ночей не спал, сидел у окна, дрожал – про то небось начисто забыл!
– Усэ ж нэ чужие, свои.
– Сыскали «своих»! Тем хуже, когда свои. И что немцам делать? Вы бы посмотрели, сколько всюду бандитов.
На это батька – пока пьяный Поль спал – обрадованно взялся шептать про партизан и про то, как дрожат немцы. Прямо на Крещатике застрелили двух офицеров. Немецкую столовую взорвали. И кинотеатр, клуб. А в селах что делается! Везде партизаны!
– Яки цэ партызаны? Сталинские бандиты! Вы бы побывали в Белоруссии…
Но что там, рассказывать не хотелось. А батька все гудел, что Украину вывезут, семени не оставят – ни людского, ни пшеничного.
– Нас богато, – отбивался сын, – хоть свет посмотрят, працувати немцы научат.
Будто и не слышит, хрыч старый, расспрашивает, правда ли, что в лесном краю, на Черниговщине, людей живьем палят, целыми деревнями…
А мати про то, как убивали евреев, – еще прошлым летом. Гнали по улицам, а их столько: «Як ти дэмонстранты!» А одна женщина-еврейка забросила в огород ребеночка.
– И таке тямуще, так все разумило! Лежит, хотя и вдарылось, не плачэ. Я поклыкала: «Сюды бежи, дитятко!»
Мельниченко аж похолодел: прячут, этого еще не хватало! Нет, умерла, мати и число помнит. Тиф привязался, но никому сказать нельзя было: подопрут хату и спалят вместе с больными!
– Дезинфекция така у вас! – буркнул батька.
Стал злиться и сын, кричать про то, как до войны было, и про евреев все, что сам батька, бывало, говорил, когда с дружками выпивал. Нет, все забыл! Талдычит свое:
– И нэ кажи! По всему выдно, що евреи им на один зуб. На евреях тильки расчинять, замисять, як на дрожжах, а з нас спечуть. На уголь зроблять. Як з тых, што на Черниговщине. И в Белоруссии. Думаешь, мы ничого не знаемо, не чулы!
Совсем разбрехался старый, рад, что сын его не какой-нибудь «Павлик», не побежит в комендатуру. Ходили туда с Полем, но для того, чтобы обрадовать стариков, переселить в хороший дом. Все-таки не у каждого здесь сын – гауптшарфюрер СС!
А за это сын получил последнюю порцию обиды. Тут уже что-то сделалось с матерью. Закричала, залилась злыми слезами – будто на ту самую «немецкую каторгу» сын их гонит.
– Ни-ни! Хочь рижь – не пидем!
И видно было, что, только связав их, можно переселить в еврейскую квартиру.
– Ничого нам не трэба! За що, господи, за що!
А когда уже прощались – все эти разговоры велись, конечно, когда Поль спал пьяный или уходил куда, – батька вдруг выпалил:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Алесь Адамович Каратели [litres] обложка книги](/books/410074/ales-adamovich-karateli-litres-cover.webp)

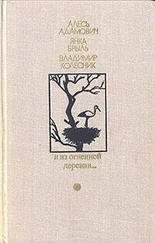

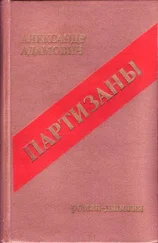
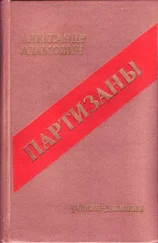



![Алесь Адамович - Пути в незнаемое [Писатели рассказывают о науке]](/books/420284/ales-adamovich-puti-v-neznaemoe-pisateli-rasskazy-thumb.webp)


