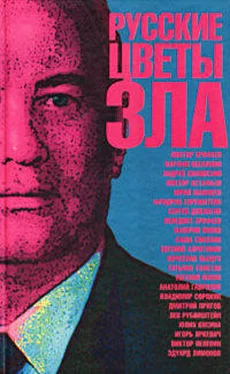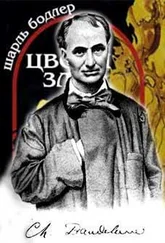«Только горе открывает нам великое и святое». Боль, всепредметная, беспричинная и почти непрерывная. Мне кажется, с болью я родился. Состояние иногда до того тяжело, что еще бы утяжелить — и уже нельзя жить, «состав не выдержит». «Я не хочу истины, я хочу покоя». «О, мои грустные опыты! И зачем я захотел все знать?»
«Я только смеюсь или плачу. Размышляю ли я в собственном смысле? Никогда».
«Грусть — моя вечная гостья». «Смех не может никого убить, смех придавить только может». «Терпение одолевает всякий смех». «Смеяться — вообще недостойная вещь, низшая категория человеческой души. Смех от Калибека, а не от Ариэля».
«Он плакал. И только слезам он открыт. Кто никогда не плачет, никогда не увидит Христа». «Христос — это слезы человечества». «Боже вечный, стой около меня, никогда от меня не отходи».
(Вот-вот! Маресьев и Кеплер, Аристотель и Боткин говорили совсем не то, а этот говорит то самое. Коллежский советник Василий Розанов, пишущий сочинения, Шопенгауэр и София Гордо, Хафиз и Миклухо-Маклай несли унылую дичь, и душа восставала, а здесь душа не восстает. И не восстанет теперь, с чем бы она ни имела дела — с парадоксом или прописью.)
«Русское хвастовство и русская лень, собравшиеся перевернуть мир, — вот революция». «Она имеет два измерения — длину и ширину, но не имеет третьего глубины». «Революция — когда человек преобразуется в свинью, бьет посуду, гадит хлев, зажигает дом». «Самолюбие и злоба — из этого смешана вся революция».
И о декабристах, о моих возлюбленных декабристах:
И пишут, пишут историю этой буффонады. И мемуары, и всякие павлиньи перья. И Некрасов с «Русскими женщинами».
И о Николае Чернышевском (о том, кто призван был, страдалец, «царям напомнить о Христе»):
«Понимаете ли вы, что цивилизация — это не Боклишко с Дарвинишком, не Спенсеришко в двадцати томах, не ваш Николай Гаврилович, все эти лапти и онучи русского просвещения, которым всем давно надо дать под зад?» «Понимаете ли вы отсюда, что Спенсеришку-то надо было драть за уши, а Николаю Гавриловичу дать по морде, как навонявшему в комнате конюху? Что никаких с ними разговоров нельзя было водить? Что просто следовало вывести за руку, как из-за стола выводят господ, которые, вместо того чтобы кушать, начинают вонять». (Как это может страдалец — вонять?) И о графе Толстом:
В особенности не люблю Толстого и Соловьева. Не люблю их мысли, не люблю их жизни, не люблю самой души. Последняя собака, раздавленная трамваем, вызывает большее движение души, чем их «философия и публицистика». Эта раздавленная собака, пожалуй, кое-что объясняет. В них (в Толстом и Соловьеве) не было абсолютно никакой «раздавленности», напротив, сами они весьма и весьма давили.
И о Максиме Горьком (по-моему, все-таки о Максиме Горьком):
«Все что-то где-то ловит, в какой-то мутной водице, какую-то самолюбивую рыбку. Но больше срывается, и насадка плохая, и крючок туп. Но не унывает. И опять закидывает».
И об «основателе политического пустозвонства в России» Александре Герцене.
«За всю его жизнь — ни одного натурального и высокого помысла — только бы накопить денежку или прочитать кому-нибудь рацею. Он, будучи гимназистом, матери в письмах диктовал рацеи. И все его душевные движения — без всякой страсти, медленные и тягучие. Словно гад ползет».
Вот на этом ползучем гаде я уснул на рассвете, в обнимку с моим ретроградом. Вначале уснула духовная сторона моего существа, следом за ней и бренная тоже уснула.
5. И когда духовная проснулась, бренная еще спала. Но мой ретроград проснулся раньше их всех, и мне, если бы я не был уже знаком с ним, показалось бы, что он ведет себя диковинно.
Вначале, плеснув себе воды в лицо, он пропел «Боже, царя храни», пропел нечисто и неумело, но вложил в это больше сердца и натуральности, чем все подданные Российской империи вместе взятые со времен злополучной Ходынки. Потом расцеловал всех детей на свете и пешком отправился в церковь. Стоя среди молящихся, он смахивал то на оценщика-иностранца, то на «демона, боязливо хватающегося за крест», то на Абадонну, только что выползшего из своей бездны, то еще на что-то такое, в чем много пристрастия, но трудно определить, какого рода это пристрастие и во что оно обходится этому Абадонне. (А я все лежал на канапе и наблюдал.) Выйдя на паперть, он подал двум нищим, а остальным, всмотревшись в них, почему-то не подал. За что-то поблагодарил Клейнмихеля, походя дал пощечину Желябову, прослезился и сказал квартальному надзирателю, что в мире нет ничего святее полицейских функций.
Читать дальше