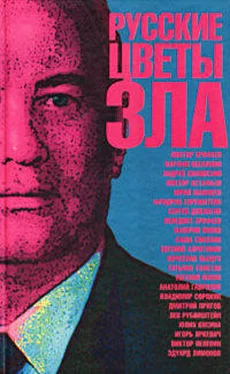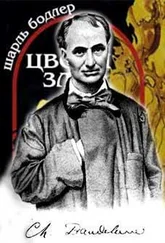Эта фаза кончалась у самой гробовой точки. Когда мертвеца ставили около ямы, я перво-наперво старался заглянуть в его лицо. Иногда в противовес великому и драматическому во мне просыпались хохотливые, идиотические силы. Мне вдруг хотелось плюнуть в лицо покойничка, иногда поднималось нелепое ожидание, что покойник вот-вот проснется и вскочит, я зажмуривал глаза и открывал: а вдруг скачет?
Но основным содержанием этой фазы была сама смерть и созерцание лица покойника.
Я упивался холодно-застывшими чертами мертвеца; мне казалось, что если я буду долго, долго до безумия вглядываться в его лицо, то сорву эту неподвижно-кошмарную, мертвую маску и увижу за ней разгадку жизни, разгадку самого себя. Сердце мое екало, природа вокруг принимала утонченную, болезненно-фантастическую форму, каждый кустик становился чертиком или Фаустом. Даже толстые, нелепые родственники около гроба казались многозначительными. Безгранично возносился я к Престолу Великой Тайны и в извивах дорог к ней еще с большей душераздирательностью любил себя, обреченного. После захоронения, бредя по молчаливым тропинкам кладбища, визгливо припадал я с мольбой о жалости к зеленым деревцам, собачкам и ядреным нищим, попадающимся мне по пути.
Жалеют кого-нибудь оттого, что у него чего-нибудь нет: денег, ума или женщины. Но я выл не о такой жалости; теплой, безумной, сексуально-маразматической жалости к своему чистому, обреченному «я», к своему дрожащему, погибельному бытию такому родному и такому заброшенному перед лицом непонятного мира — такой неистовой, патологической жалости просил я, но деревца одиноко молчали в ответ, собаки лаяли и разбегались, а нищие крестились и шарахались в сторону… И я понял, что эту жалость я могу получить только от самого себя и что из этой жалости должно возникнуть что-то великое…
Так и живу я сейчас, пустынно и одиноко. Почти через день хожу на свое милое кладбище. Обедаю тут же, около тайны. Меня уже все здесь знают. Родственников очередных покойников предупреждают обо мне. Некоторые очень дружелюбны и после похорон угощают меня водкой, некоторые шарахаются, другие думают, что я шпик, и отказываются хоронить.
Несколько раз бывали экстазы, когда я в слабоумненьком отупении, в вихре, уже за гранью миров, лез, расталкивая всех, целоваться с покойниками. Один старичок запустил тогда в меня галошей…
Зиночка раза два ко мне в кладбищенскую пивнушечку прибегала. Посмотрит, посмотрит, раскроет глаза, ахнет и убежит… Я с ней уже ни о чем не разговариваю…
…Зато Юрий Аркадьевич — слава богам! — опять стали меня посещать, теперь уже, правда, по утрам.
Подмигнул мне последний раз и, пристально так глядя, сказал: «А не кончается ли у вас, Сашенька, юность, и не пора ли вам отправляться в решающее, мистическое путешествие»…
…На этом обрывается тетрадь индивидуалиста.
Горенштейн Фридрих
С кошелочкой
1
Авдотьюшка проснулась спозаранку и сразу вспомнила про кошелочку.
— Ух ты, ух ты, — начала сокрушаться Авдотьюшка, — уф, уф… Вчерась бидон молока несла, ручка подалась, прохудилась… Успеть бы зашить к открытию…
И глянула на старенький будильник. Когда-то будильник этот будил-поднимал и Авдотьюшку, и остальных… Кого? Да что там… Есть ли у Авдотьюшки ныне биография?
Советский человек помнит свою биографию в подробностях и ответвлениях благодаря многочисленным анкетам, которые ему приходится весьма часто заполнять. Но Авдотьюшка давно уже не заполняла анкет, а из всех государственных учреждений главный интерес ее был сосредоточен на продовольственных магазинах. Ибо Авдотьюшка была типично продовольственной старухой, тип, не учитываемый социалистической статистикой, но принимающий деятельное участие в потреблении социалистического продукта.
Пока усталый трудовой народ вывалит к вечеру из своих заводов, фабрик, учреждений, пока, измученный общественным транспортом в часы пик, втиснется он в жаркие душегубки-магазины, Авдотьюшка уже всюду пошнырять успеет, как мышка… Там болгарских яичек добудет, там польской ветчинки, там голландскую курочку, там финского маслица. Можно сказать, продовольственная география. Вкус родимого владимирского яблочка или сладкой темно-красной вишни она уже и вспоминать забыла, да и подмосковную ягодку собирает, как помощь к пенсии, а не для потребления.
В еще живые лесочки с кошелочкой пойдет, как в продовольственный магазин, малинки-землянички подкупит у матушки-природы, опередит алкоголиков, которые тоже по-мичурински от природы милостей не ждут, малинку на выпивку собирают. Так лесочки оберут, что птице клюнуть нечего, белке нечего пожевать. Оберут братьев меньших, а потом на братьев-сестер из трудящейся публики насядут.
Читать дальше