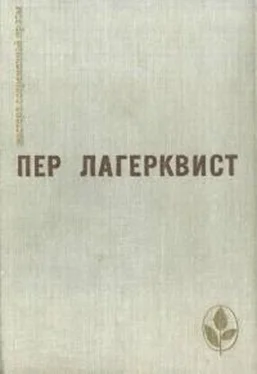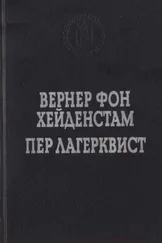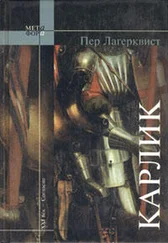Однако главное в повести – не столько внешние события, сколько глубинное содержание: размышления о смысле жизни, о том, что готовит грядущее. Рассказ пифии о своей жизни – это «крик души». Автор с сочувствием показывает ее неисчислимые страдания после того, как она, оставив патриархальный дом родителей – простых, бедных крестьян,– стала жрицей. В храме она убедилась, что жрецы не верят в верховное божество, они лишь «служат» ему. Утрата веры – один из важнейших лейтмотивов в творчестве Лагерквиста – по-своему проявляется и здесь. Оставшись в одиночестве, Сивилла с теплым чувством вспоминает о мирной трудовой жизни среди простых людей, с надеждой помышляет о радости слияния с природой. Поэтому финальный монолог Сивиллы оказывается поучительным и для Агасфера, еще раз воочию убедившегося в жестокости бога и обретшего надежду на возможность нравственного очищения, искупления вины, освобождения от проклятия.
В трилогии о пилигримах («Смерть Агасфера», 1960; «Пилигрим в море», 1962; «Святая земля», 1964) Лагерквист пытается дать ответы на те же вопросы. В каждом из героев намечена определенная концепция личности и ее взаимоотношений с миром. Встреча Агасфера с Тобиасом, направляющимся в Святую землю, и особенно с Дианой, причисленной к сонму богов, но мечтающей о земной любви, заставляет и его, вечного странника, искать нечто «сокровенное, забытое и утраченное». Таким идеалом для него выступает детство, не затронутое лицемерием и злом. Бунт Агасфера против «божественного предначертания» помогает ему преодолеть страх смерти. Поэтому могут окончиться и скитания, превратившиеся для него в цепь невыносимых страданий. Тобиас ищет в паломничестве освобождение от прошлого – беспутной жизни вора и разбойника. В истории Джованни, еще одного паломника, Лагерквист продолжает тему величия земной любви. Отданный фанатичной матерью в монастырь, юноша Джованни видел свою судьбу в покорном служении богу. Но любовь к женщине преображает его. Из исповеди Джованни мы узнаем, что он, священник, был лишен сана и отлучен от церкви за тяжкий проступок: он полюбил женщину больше, чем самого бога.
Герои трилогии о пилигримах, чужаки (понятие «främlingen» шведская критика прилагала и к самому автору), не принимают жестокой реальности собственнического общества, но разочаровываются они и в своих иллюзиях. По мысли писателя, каждый, говоря фигурально, должен нести свой крест и подняться на Голгофу, пройти испытание верой и безверием, «выбрать правду без иллюзий», рассчитывать лишь на себя и в себе самом обрести покой и гармонию, любовь и надежду... Но, как оказалось, ставить на этом точку было рано.
Повесть «Мариамна» (1967) – лебединая песнь Лагерквиста, в своем реализме несколько неожиданная после трилогии о пилигримах. Казалось, что писатель уже решил поставленные им перед собой задачи. И критика пыталась искать в новой повести лишь сходство с предыдущими произведениями автора, поскольку здесь показана та же древняя Иудея поры царствования Ирода, который, как с сарказмом отмечает автор, думал о себе, что «равного ему могуществом не было в целом свете», хотя «был он всего-навсего человек».
Действительно, Ирод был близок персонажам-чудовищам из прежнего «сказочного мира» Лагерквиста. Порою он даже превосходит их гипертрофированностью чувств и поступков, человеконенавистничеством, олицетворяющим тиранию и деспотизм. И потому царя иудейского «считали богопротивнейшим и страшнейшим из людей, врагом рода человеческого». Таково было общее мнение о нем, и писатель подтверждает: «приговор справедливый и истинный».
Народ не любил Ирода и не мог понять его брака с Мариамной, девушкой из рода Маккавеев, во всем противоположной ему. Гуманизм Мариамны, черпающей силы в народе, делает ее бесстрашной защитницей угнетенных и безвинно осужденных. И сама она гибнет от руки убийцы, подосланного Иродом. Исследователи называли «Мариамну» повестью мрачной, исходя, видимо, из ее финала и характера Ирода. Но глубинные ее основы были гораздо более сложными.
У Ирода немало общего со многими более ранними персонажами Лагерквиста – не только с такими, как Палач или Карлик, но и с Агасфером, Вараввой. Но Ирода Лагерквист подвергает испытанию не верой, а любовью. Чудовище в образе человека, Ирод был поражен красотой и внутренним благородством Мариамны, выказывал к ней почтительность. Ей же хотелось, «чтобы он был добр ко всем», а это уже было требованием чрезмерным. Чувство его было крайне противоречивым –своего рода «любовью-ненавистью». «Сын пустыни», он и духовно был опустошен. Мучимый манией преследования, страхом перед своим народом, ужасом перед смертью, Ирод переживает жестокую внутреннюю борьбу, в которой эгоизм и злоба оказываются все же сильнее любви.
Читать дальше