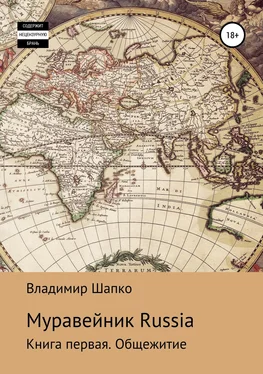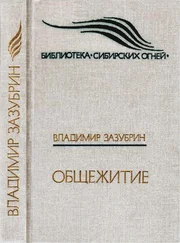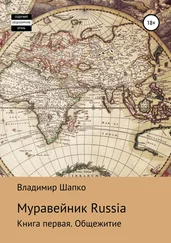Кропин вышел из общежития в седьмом часу вечера. На остановке стоял словно бы с новой верой. Точно начал всё сначала. Стремился вновь заинтересоваться всем. Вот, скажем, совсем недавно прошёл дождь. Может быть, даже первый, апрельский. Три промокшие вороны сидят на проводах,как нахохлившиеся молчаливые ноты. За ожившим парком, по-весеннему рассеянным по воздуху, солнце – как оставшаяся вдали дорога…
Спросил у пожилой женщины, стоящей с большой корзиной на руке:
– Цветы продавали?
– Цветы, – хмуро ответила женщина и поправила на корзине тряпку.
– Подснежники?
– Ещё чего!.. По лесам-то лазить…
Так. Значит, уже из теплицы. Кропин хотел уточнить… но тут откуда-то на остановку, к людям, вытолкнулась пьяная. Тощая женщина в длинной вислой юбке. Прогибающаяся вся как кисть.
Промахнулась мимо отходящего автобуса. Точно теряя за собой ноги,повалились на проезжую часть дороги, подкинулась. Рукой тянулась. Будто выползала из своеймёртвой юбки.
Кропин это… как его? Как же так, боже ты мой! Он же – Кропин!Ведь он же не был бы Кропиным— если б не ринулся, не побежал! В следующий миг он уже растопыривался над женщиной, суетился. Ах ты, беда какая!Подхватил было под руку, чтобы поднять её, поставить на ноги… и получил резкий тычок в бок, чуть не опрокинувший его.
– На-ка, старик!..
Двое Сизых, невесть откуда взявшихся, сами сдёрнули пьяную с асфальта и повезли к сизому фургону. И всё они делали быстро, всё у них было отлажено. Женщину закинули в тёмное чрево кузова. Закинули как корягу.Которая медленно, жутко оживала там на полу. И точно добивая её, с железным грохотом захлопнули дверь, натренированно, только раз повернув взамке т-образным ключом. Залезли в кабину. Поехали.
На остановке Кропин дрожащими руками отирал пот. Ожидающие другого автобуса как будто не замечали старика, смотрели мимо, по сторонам. «И надо было тебе ввязываться?!» Тётка! Которая с корзиной! Смотрела с устойчивым презрением. С брезгливым превосходством. «В луже-то валандаться… В грязе… А? Не стыдно?..» Кропин отворачивался, делал вид, что не слышит.
В автобусе тётка бубнила ему в спину. Притом так, чтобы окружающие тоже поняли, о чём идёт речь. Призывала всех в свидетели. Такому полудурству. Вот только что случившемуся на остановке. Вот только что! Минуту назад!.. Не могла простить она такого старику, не могла. Ей хотелось сунуть ему в стриженый затылок. И-ишь, стиляга-а! Кропин прошёл вперёд. Вон он,вон он! Который котелок обрил! Как только автобус остановился – вышел.Тётка лезла с корзиной к окну, дергая сидящих людишек, всёпоказывала на Кропина.
Кропин сел на скамейку. Опять вытирал платком лицо. Склонённая голова его походила на только что остриженного ягнёнка. Всю жизнь теперь будет помнить тётка об этом случае. А через час-другой о нём узнает вся еёКудеевка.
Поздно вечером в звездном небе, будто в сильно траченной мольюнегреющей кисее, зябла маленькая старушка-луна. И опять ждал Кропин автобуса, чтобы ехать. Теперь, исправившись перед людьми – в глубоко насаженной шляпе. Как молдаванин. Был тих, задумчив. Задумавшиеся глаза его словно журчали, сроднившись с небом. Как две большие планеты. Руки удерживали сумку с продуктами для Кочерги.
37. Старость и болезни Кочерги
Выше этажом грызла тишину супружеская кровать. Деликатно, как мышь. Иногда теряла терпение, воспитанность. Принималась громыхать. Поражала ежесуточная эта, священная обязательность супружеского ритуала.Его мышиная извинительность, но и неотвратимость… Наконец похрустывание начинало обретать силу, напор. Приближая себя к наивысшей точке, к пику блаженства. И разом обрывалось всё, – как с вывихнутой челюстью… По потолку тут же бежали пятки. В ванной начинала шуметь вода. Шло поспешное паническое вымывание… И ведь не надоедает людям. Удивительно. Кочерга накладывал на голову маленькую подушку, старался не думать ни о чем, заснуть. Но сна больше не было.
Таращился в полутьме, раздумывая, вставать или нет. В телевизор, как в мутный кристалл, уродливо засажена была вся комнатёнка. Вяло поприветствовал себяв ней чужой ручонкой.
Кряхтел, долго садился в постели. С замотанной полотенцем головой,с остеохондрозом своим, подвязанным шерстяной шалью. Проверяюще подгребал к себе всё смятое вокруг. Походил на бесполую старуху. Или на старьёвщика какого-то. Барахольщика. Перебирающего свои «богатства». На Плюшкина, точнее всего. Усиливая кряхтение, вздёргивался на трясущиеся ноги. Стоял изогнутый, с рукой на пояснице. Как будто опирался на изящную тонконогую подставочку в фотоателье. Надеясь с помощью её разогнуть,распрямить себя. Чтобы сфотографироваться, так сказать, с достоинством…Долго шаркал шлёпанцами к туалету, по-прежнему согнутый, как каракатица. Разматывал, оставлял за собой на полу шаль, ещё какие-то тряпки.
Читать дальше