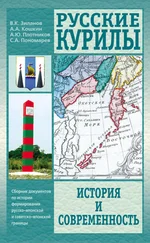Пошел представиться главному врачу. На улице, в желтовато-синих, рассыпчатых сугробах у каждого дома лежали лайки. Не вынимая носов из теплых пазух, они провожали Константина Николаевича умными, настороженно-сизыми взглядами: кто, мол, тут еще появился? Чернявенький и рот до ушей?
Больничный пригорок топорщился корявыми, низкими соснами с ярко-желтой чешуйчатой корой и засахарившимися потеками смолы — такие обычно растут на песчаных, продуваемых косогорах.
— Привет, привет, — сказал главный врач, почти ровесник Константину Николаевичу, розово и благодушно располневший. — Алексей, — сунул распаренную, вялую руку. — Устроился? Не торопись — о деле успеем! Приходи в гости. Молодость вспомним под грибочки. У меня жена тоже медик, в аптеке провизором. Ну, осматривайся. Я — в райтоп ругаться. С дровами, черти, тянут и тянут. Ох, на подъем тут тяжелы, поживешь — увидишь.
Через месяц он знал в лицо всех жителей райцентра, а их собак, пожалуй, и поближе — собачья жизнь, с драками, ссорами, мгновенными примирениями и откровенными любовными хороводами, невольно занимала свежий взгляд. Он спрашивал у Елены Ивановны:
— А чей это рыжий вислоухий кобель? Ласкается, ласкается, а только отвернешься, так и норовит то за полу, то за штанину?
— Фарковский. Весь в хозяев. Школько помню, все шобаки у них такие. Лыбятся, лыбятся, а потом где-нибудь оконфузят. Ты вот жамечай, Конштантин Николаевич: какой пес, такой и хозяин.
— Н-да, — улыбнулся он. — С собачьей меркой, Елена Ивановна, я еще как-то к людям не подступался.
— Все ишшо впереди. Не горюй…
В больнице у него был один только больной — эвенк Монго, лежавший с радикулитом. По утрам в окнах его палаты маячили плоские, ветвистые ухваты оленьих рогов — кто-то из многочисленной родни приезжал навестить. По вечерам он, перевязав поясницу собачьим чулком, сидел у печки, курил; бегущие от пламени тени делали загадочно-тревожным его бесстрастное, одутловато-желтое лицо. При очередном осмотре Монго сказал ему:
— На два дня отпускай меня, доктор.
— Как?! — не понял Константин Николаевич. — Ты и половину положенного не пролежал.
— Брат женится, поеду. Через два дня вернусь.
— И не выдумывай. Запрещаю. — Не мог же при всем при том объяснить Константин Николаевич, что больница лишится единственного больного — анекдот чистой воды, что ему тогда здесь делать?
— Надо ехать, доктор. Брат обидится.
— И я обижусь.
— Ты не брат, маленько меньше обидишься…
Вот так разрушались в этом богатом на здоровых людей районе все мечты Константина Николаевича о деятельной, серьезной жизни. Он взял ночные дежурства на «скорой помощи», но вызовы были так редки, что, ошалев от теплой, дремной тишины дежурки, выскакивал на больничный двор и долго ходил под низкими, крупными звездами. Слушал, как на реке с тихими стонами и резкими гулкими вскриками ломался лед — при этих стонах и криках рождались голубоватые, нежно-искрящиеся торосы. С шелестящим, далеким вздохом срывался снег с какой-нибудь ели; лениво, как и подобает ночным сторожам, перекликались собаки; тревожно скрипели его шаги — невероятно, что у него была другая жизнь, наполненная, как казалось ему теперь, ежедневной праздничной суматохой.
Он записался в драмкружок и сам себя ненавидел, когда деревянным, неумеренным голосом говорил: «Не образумлюсь, виноват…» — но из кружка решил не уходить, пока не выгонят, все-таки два вечера в неделю заняты. Но руководительница кружка, учительница литературы Галина Алексеевна, и не думала прогонять его: страдая и бледнея от его бездарности, она тем не менее ухитрялась говорить ему какие-то туманно-доброжелательные слова. Константин Николаевич не обольщался: какая же старая дева прогонит молодого холостяка?
В комнате Елены Ивановны на стене, на белой атласной тесемочке, висела мандолина, темно-вишневая, с перламутровой инкрустацией.
— Елена Ивановна, дайте поучусь. Всю жизнь мечтал на мандолине играть.
— Не дам. Испортишь, разобьешь, а мне о штарике память.
— И правильно сделаете. Слуху у меня все равно ни-ка-кого.
— Томишься, Конштантин Николаевич. Дурью маешься. Взял бы да женился. Вон школько девок понаехало. И в школу, и на метеоштанцию.
— Разве со скуки женятся, Елена Ивановна?
— Почему шо шкуки? Пришмотрись, выбери — не на три года, на всю жизнь. Так и быть, на квартиру пущу.
Читать дальше
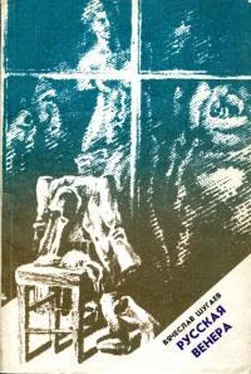









![Вячеслав Шугаев - Странники у костра [Авторский сборник]](/books/418609/vyacheslav-shugaev-stranniki-u-kostra-avtorskij-sbor-thumb.webp)