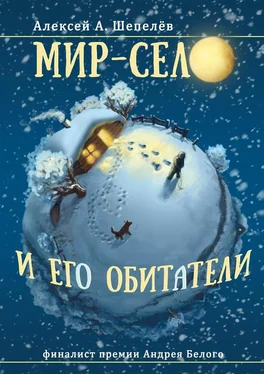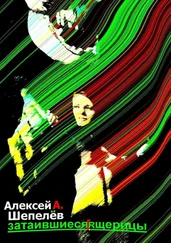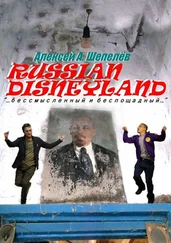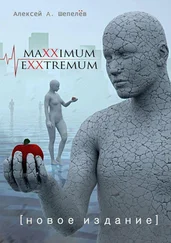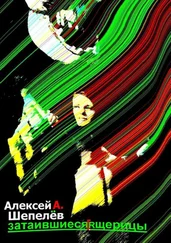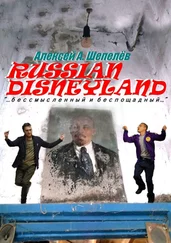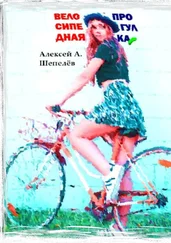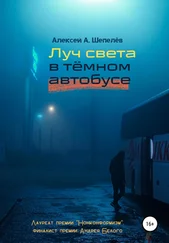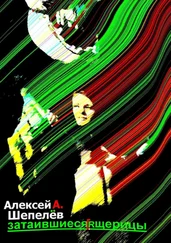В 93—94 годах мы уже отплясывали в новом клубе. Не было ощущения, что на костях – как и у тех, кто, допустим, живёт в Москве иль приезжает в Питер, – но всё же не грех покаяться… Небольшое фойе, с большим и неуютным, зигзагистым каким-то эхом – вокруг бетон, полы из плитки, окна-стёкла… «Барахтались» воодушевлённо – выделывали спьяну под не менее модных, чем былой «Модэрн», 2 Unlimited – весь альбом нон-стопом, кассету только успевали переворачивать! (Потом примерно то же было с E-Type, а после подобное единодушие – магический синхронизм российской глубинки со всем миром! – иссякло). Что поделать, воспоминания, можно сказать, самые радужные… И не от остатков-огарков светомузыки (покупали-то мы с отцом новёхонькую – куда-то ездили, доставали, долго собирали) – от первых, что называется, опытов с самогоном. Темь и грязь – не эстетика безобразного (но и не безобидного, и не безликого!) – уж панкуют-то наши па д цаны то панкуют! Заводилы несообразных танцев мы – я, Перекус и братец (годом позже у меня ещё появятся последователи и подручные – уже из сверстников братца, в том числе сынок Чубатого Колюха). Перекус (с детства я так звал Вовку-соседа) под таким именем вмиг становится городской (простите, сельской) знаменитостью: в первый раз нажрался, и сразу в умат, пособрал все лужи! Притащили к бабке набучёного 12 12 Напитанный водой, диалектный вариант от «наб у ченный» – вымоченный в щёлоке (обычно о белье).
, как губка, а на дворе – ноябрь морозный. Ну, и барахтался тоже неплохо – как паяц на нитках, толканием по кругу только и на ногах… Пространства не так много, и кто-то постоянно, топчась и кружась, под лестницей вынужден вытанцовывать – тяжёлой и бетонной, идущей косо вверх, нависающей, как в «Имени розы», и ведущей, собственно, в непопулярную библиотеку.
Книг у нас в доме тогда было мало – десятка полтора, не больше. Читать мне что-то, как и принято в деревне, не читали, и я, когда научился в школе, тоже не читал. Однако, с этого возраста, как уже хвалился, сам начал писать, и за неимением чтива и к нему стимулов, писал постоянно… Впрочем, речь не о том; добавлю только, что чтение и письмо не казались мне особенно связанными, собственное художество (процесс из себя ) казалось мне куда более естественным, чем обычное для будущих литераторов глотание целых полок чужого.
В одном из своих романов я также уже остроумничал, что к человеку, сидящему за книжкой, отношение у сельских жителей примерно такое же, если б ты на виду у всех сидел в руках с презервативом или с початой бутылкой! Занятие, если не вредное, то бесполезное – и отчасти я это отношение разделял – и отчасти (но, конечно, уже куда меньше) разделяю, как ни странно, и по сей день.
Моё отношение, однако, всё же терпимое, философское, идущее бок о бок с неприятием головокружений перегибов цивилизации, а у родственников моих и тех, кого я знаю, подчас прямо воинственное!
Приходилось мне слышать и несколько историй о странных чудаках, кто «с чего-то начал читать всё вподряд» (или наоборот – одну Библию) да и дочитался – сошёл с ума. При всём при этом не раз мне рассказывала мама про своего рано умершего брата Колю, который и был настоящим заядлым читателем – в глухой деревушке Затолокино Пензенской области. Он всё знал, твердит она, всё, что ни спросишь. Однажды из баловства соседский малец обдумал спросить такое … И ему вполне интеллигентно и серьёзно ответили. Это руководителю страны можно было так ругаться, а додумайся спросить у родителей неграмотных или у училки в школе – тебя бы выдрали как сидорову козу и не приняли бы в пионеры. В свои ещё, наверное, старше-школьные годы, деревенский книгочей знал, что такое «педераст». Невольно вспоминается подружка Эллочки-людоедки, знающая «богатое слово: гомосексуализм». Но кем вспоминается? Да и смешного тут, кстати, не очень много: то же, что и редиска – плохой человек! Даже «очень плохой».
Не раз повторялось мне с детства, что дядя Коля, в болезни и предчувствии смерти, говорил маме: «Будет у тебя сын, назови Алёшкой».
Но память памятью, она искажается интерпретацией, поэтому преференций это никаких мне не доставило – едва ли не наоборот. И одиночество, и странность пресловутую, и скитальчество – всё видное невооружённым глазом, чувствуемое другими нутром – мне не надо было искусственно вырабатывать. Общения и улицы я не особо чурался, не считался болезненным, с книжкой под носом не спал, не ходил и не ел. Читать мне, однако, всё же приходилось, но всегда с трудом: Алёшкой с книжкой я не перестал быть ни в 18 лет, когда учился в универе и начал публиковаться, ни в 23, когда защитил диссертацию и вышел книгой роман, ни в 33… – отношение практически не изменилось. Как будто всё напечатанное буквами – только о «плохих».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу