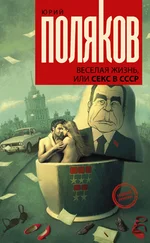– Знаешь, кого только что показали?
– Джедая?
– Да. Откуда ты знаешь? Он был в темных очках и с бородой, но я все равно узнала… Подожди, может, снова покажут.
Но снова его не показали.
– Это точно был он?
– Не знаю… – начала сомневаться Катя, – но очень похож!
– А он был с гитарой?
– Нет, без гитары.
– Тогда, наверное, не он.
Эскейпер взял с дивана гитару, пристроил на коленях и попытался сообразить простенький аккорд – но ничего, кроме какого-то проволочного дребезжания, у него не вышло. А на подушечках пальцев, прижимавших струны к грифу, образовались синеватые промятинки с крохотными рубчиками. У Каракозина, он помнил, эти самые подушечки от частой и буйной игры на гитаре затвердели, почти ороговели, и когда Джедай в раздражении барабанил по столу пальцами, звук был такой, словно стучат камнем по дереву. Зато как он играл, какие нежные чудеса выщипывал из своей гитары!
«А странно получается, – неожиданно подумал Башмаков, – чем нежнее пальцы, тем грубее звук, и наоборот, чем грубее пальцы, тем звук нежнее… А что? Глубоко… Может, на Кипре книжки попробовать писать? Нельзя же, в самом деле, всю оставшуюся жизнь обслуживать пробудившиеся Ветины недра! “Закогти меня, закогти меня!” Что я, филин, что ли?!»
Эскейпер встал и, раздраженно пощипывая струны, подошел к окну. На свету сквозь большое черное пятно, расплывшееся на тыльной стороне гитары, угадывались кусок слова «счастье» и замысловатая, даже канцелярская роспись барда Окоемова. Такие автографы характерны не для творческих людей, а для чиновников, визирующих финансовые документы, или для учителей, опасающихся, что школьники подделают их росписи в дневниках. Вот у Кати, например, роспись на первый взгляд несложная, но с такой хитрой загогулинкой, что фиг подделаешь. Умела это делать только одна Дашка, и к ней вся школа бегала за помощью… Боже, что было, когда все это открылось! Взбешенная Катя, ворвавшись в квартиру, стала выдергивать ремень прямо из брюк обомлевшего Башмакова. Дашка поначалу решила, что это возмездие за разбитую чешскую салатницу, и даже начала плакать от вопиющего несоответствия преступления наказанию: ее никогда не пороли. Но тут у Кати вырвалось:
– Ах ты, мерзавка, подпись мою научилась подделывать!
И удивительное дело: слезы на Дашкиных щеках мгновенно высохли, и еще несколько ременных вытяжек (Катя быстро выдохлась) она приняла без звука и почти как должное. А через полчаса подбрела к надутой Кате и пропищала:
– Прости, мамочка!
Обычно из нее это «мамочка» было клещами не вытащить. Настырная девочка. А теперь вот скоро родит…
Эскейпер посмотрел из окна вниз: капот «Форда» был закрыт, зато ноги Анатолича торчали прямо из-под кузова. Сверху казалось, будто машина придавила его всей своей тяжестью – насмерть.
«А вот интересно, – подумал Башмаков, – человек перед смертью действительно вспоминает всю свою жизнь? Допустим, вспоминает. А если смерть мгновенная? Если, например, прыгнуть отсюда, с одиннадцатого этажа, – много ли успеешь вспомнить, пока долетишь? Ни хрена не успеешь! Да это и не нужно. Там, наверху, из тебя всю твою память вынут, как кассету из сломавшегося видака, просмотрят и вынесут приговор. А с другой стороны, человек состоит ведь не только из своей памяти, но еще из того, каким он засел в памяти других людей. Это тоже там должны учитывать! Значит, обязаны дождаться, пока умрут все, кто знал усопшего, чтобы их “кассеты” тоже просмотреть. Э-э, нет! Зачем ждать? Информацию можно считать и на расстоянии, в “Альдебаране” этим целая лаборатория занималась… И что же получается? А получается, что Башмаков сегодня почему-то целое утро вспоминает Джедая. Может быть, там, наверху, пришло время решать судьбу Каракозина? Может быть, все, кто знал Рыцаря, сегодня его вспоминают? И Катя тоже. Надо спросить…»
– Дурак ты, а не эскейпер! – громко объявил он сам себе, стукнулся в доказательство три раза лбом об оконный переплет и добавил уже тише: – Бедный Джедай!
Каракозин объявился через четыре месяца после своего исчезновения. Был конец сентября. Погода стояла солнечная и златолиственная. До исторического расстрела Белого дома оставалось еще порядочно. Честно говоря, Башмаков особенно не вникал в суть конфликта между Ельциным и Верховным Советом. На политику он обиделся, даже газеты почти перестал читать. Как только в телевизоре возникал комментатор и, мигая честными глазенками рыночного кидалы, начинал витиевато разъяснять текущий момент, Олег Трудович сразу переключал программу. И в самом деле, что ему до этой драной политики, до этой визгливой кукольной борьбы, если его собственная жизнь закатилась аж на стоянку к чуркистанцу Шедеману Хосруевичу!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Юрий Поляков Треугольная жизнь [сборник] обложка книги](/books/404950/yurij-polyakov-treugolnaya-zhizn-sbornik-cover.webp)

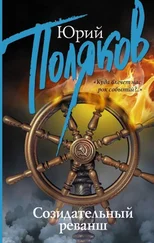
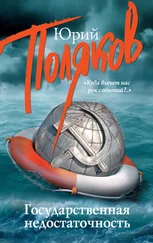



![Юрий Поляков - Подземный художник [сборник]](/books/403496/yurij-polyakov-podzemnyj-hudozhnik-sbornik-thumb.webp)
![Юрий Поляков - Треугольная жизнь [сборник litres]](/books/404949/yurij-polyakov-treugolnaya-zhizn-sbornik-litres-thumb.webp)