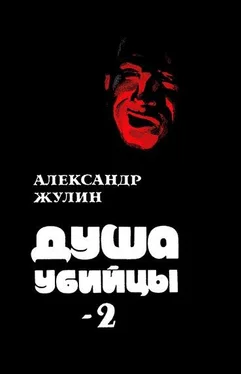Потом они пили чай, и он изводил ее, как дитя: то хочу с сахаром, то зачем положила так много, — а она, на удивление необидчивая, наливала послушно, и клала, и ставила, и под конец у него перед носом оказалось пять чашек, и она, веселая, как летнее солнце, рассмеялась:
— Выбирайте, Ваше привиредничество, какой чай Вам угоден!
Ему сразу вспомнилась арфа, лживая арфа. Понурясь, ногой двинул сдул, пошел за пальто.
В автобусе ехали молча. Угрюмо смотрел в окно. Проплывали дома, скучные, серые, проплывали рекламы кино, нелепо раскрашенные — ничего хорошего он не ждал от этой поездки.
— Здравствуйте, премного наслышан! — встретил их какой-то киношный в этой вельветовой домашней пижаме толстяк с трубкой в зубах. Неопрятный, с седыми кудрями, полными перхоти — как позже заметил Антоха, — весь такой полный, расплывшийся.
Никак не мог развязать тесемки у шапки.
— Тоник, ответь же, — сказала она. И поторопилась за него заступиться: — Такой возраст! Ломок, стеснителен!
Эта поспешность вызвала еще большую неприязнь к Егору Исаевичу.
— Какой такой возраст? — толстяк нацелился положить на плечо ему свою пухлую руку. Антоха так дерзко глянул в ответ! Рука задержалась. — Он что, инфантилен?
— Просто застенчив, — возразила, королевски улыбаясь, она.
Став сразу бесконечно застенчивым, Антоха потупился.
Мужская рука все же легла ему на плечо:
— Пойдемте!
Они пошли в комнату, Антоха, ведомый чужой, неприятной рукой, заметил, что другая рука, такая же неприятная и чужая, коснулась маминой талии.
Это запомнилось. Как запомнились кларнеты, гобои и скрипки, развешанные по стенам коридора, Антоха споткнулся, заглядываясь.
Мама словно ждала этого. Шагнула в сторону от руки.
— Егор Исаевич коллекционирует музыкальные инструменты, — сказала Антохе, даря улыбку другому. — Тебе интересно?
«Сколлекционировал бы твою арфу!» — подумал Антоха, кивая.
— Пойдемте сюда! — с жирной улыбкой раскрыл двери хозяин. — Встань, мальчик, сюда.
Антоха встал так, чтобы не терять маму из вида.
— Пропой: до-о-о! — Егор Исаевич тронул клавишу пианино.
— Ля-я-я! — завопил Антоха не в тон. С другой стороны, Егор Исаевич ведь тронул клавишу «ля»!
— Тише, потише! — чужие пальцы, словно крючья, впились в плечо. — Что знаешь ноты — прекрасно. Но не кричи, слушай внимательно: «Ля-я-я!»
— Дo-о-о! — вторил Антоха тонко, фальшиво, любуясь тем удивлением, которое видел на лице мамы.
— Ре-е-е! — звонко фальшивил, наблюдая, как розовеет она, — ми-и-и! — надсадно тянул, идиотски сводя глаза к кончику носа.
— Возраст, увы, сложный возраст! — поддакивал Егор Исаевич маме, провожая ее и не делая больше попыток положить ей руку на талию. — Конечно, для духовых, для кларнета еще, может быть, не так уж и поздно, но, знаете, возраст, такой неожиданный, ломкий.
В автобусе теперь молчала она.
— Я не хотел, — сказал примирительно, — это получилось нечаянно.
Мама грустно смотрела в окно. Сейчас особенно бросались в глаза морщины в уголках ее рта. Он потянулся к ней.
Попытался исправиться.
— Я, мам, не сумею играть, — сказал рассудительно, — во мне же нет твоих генов.
Он повторил подслушанные слова для убедительности. А она так глянула на него! Так страшно глянула, так шикнула на него, будто он был — змея!
И когда отговорила все злые слова, когда вскочила, пошла по проходу, бросив его, когда он помчался, шатаясь на поворотах, за ней, когда схватил ее за рукав, она снова так глянула! Он испугался. Испугался услыхать: «Ненавижу!» Вот почему вжал голову в плечи, вот почему от нее отцепился. И сколько бы позже не тискала, мяла, целовала его, он всегда помнил свой страх, и чем была она веселее в такие минуты, чем сильнее тянулась к нему, тем злее был его ответный удар, и он всегда ждал, затаившись, когда она больше раскроется, чтобы ей сказануть. Вернулась однажды со своей репетиции, что-то там ей сказали хорошее, кинулась ворошить, щекотнув, опрокинула, затеребив, шепнула на ухо: мол, славный ты мой, красивый ты мой! А он и ответь:
— Хорошо, что не похож на отца?
И глянул спокойненько, будто и думать не думал! Она сразу отпрянула. Он ведь все понимал, зачем она присматривается, зачем ищет в нем сходство с отцом, отчего ее волнуют те черточки в нем, которые кажутся ей чужими!
А ссоры родителей становились все безобразнее, он вступал в них со всей яростью мальчишеских чувств, однажды влез с бухты-барахты, брякнул с размаха, как топором: «Да ты не боись! Я так и так останусь с отцом! Тебе не повешусь на шею!»
Читать дальше