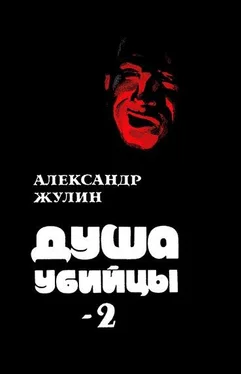Зина, ликуя, повисла на мне; из-за спины ее взбудораженный Эдик пытался достать меня кулаками. Вырубленный мною золотистый чурбан, подвывая, интересовался, за что я его. А я, свирепея от неудач, от неуместности Риты, от натиска ненужной мне, отработанной Зины, пытался оторвать от себя Зинино коренастое тело, и вся суматоха грозила обернуться пошлейшей бузой, как вдруг Рита (за что и любил!), резко выключив свет и выткавшись в полутьме с чем-то громоздким в руках (кастрюля с водой), опрокинула на нас леденящий поток.
— Уж такая я б… что не могу без скандала? — изрекла в наступившем безмолвии, прерываемом чавканьем ее босых, хладнокровных шагов…
Фраза застряла в ушах, и позже, в жарком борении неистовой нашей ночи эта фраза время от времени выплывала, и я начинал хохотать в самый неподходящий момент.
— А ты-то, а ты! — смеялась она, раскрывая свои крупные желтоватые зубы. — Отелло!
Чем-то мне нравилось это сравнение. Чем?
— Вот чего нету у Труева, так это — Отелловой страсти! — пропела она, поднимаясь с постели и беря свое платье.
— Ага! — вторил ей жеребячий мой гоготок.
— Люблю его, — вдруг сказала она, а я, не услышав, не вняв, еще погогатывал. — Его я люблю! — повторила она.
Да, она одевалась. Одевалась, не ожидая меня.
— А меня? — спросил я, готовясь к новенькой хохме.
— Утимизирую! — шyтливо потрепала меня по щеке. — Для удовольствия тела.
Похоже, хохма затягивалась. Пора было закончить ее, но нужно было кое-что выяснить. С леденящей трезвостью я вспомнил о Труеве и вспомнил, что, может быть, упускаю свой шанс. При этом Рита оделась, я же лежал.
— За что же ты любишь его, голубка моя? — вкрадчиво я вопросил. Она как раз начала подкрашивать губы.
— А ты и не понял? Ведь ради того, чтобы я переболела тобой, только ради того, чтобы я прошла этот путь… потому что он-то считает, что каждый обязан пройти спой путь до конца, он разрешил нам остаться здесь! Он без боя уступил тебе меня… ради меня! — говорила она, трогая малиновым карандашиком губы.
— Непротивление злу? — ласково я уточнил.
— …Он светлый, он светлый, — говорила она. — Он собирается в каменоломни, а я не проводила его… Мне стыдно, что именно в этот момент, именно в этой квартире…
— Но ты же сама говорила, голубка: его принцип — принимать мир, как он есть!
— …Я предала его, да!..
— Его принцип: недеяние! Не ты ли мне говорила об этом, гордясь, но и как бы с насмешкой?
— …Но всё! Я переболела тобой!..
— Его адрес, голубка моя! Где живет его мамочка?
— Там! — она кивнула на письменный стол. — Конверт. От свекрови. Ты собираешься ехать к нему? Не смей! Я одна! Обними меня на прощанье, последний разочек, и я еду к нему! Обними, я прошу! — шептала она, приникая.
И тогда я выхватил браунинг, припасенный для Труева: «дуло к виску, и команда…»
— Ты куда? Ты к нему? Ты дура? — железными пальцами я сжимал ее плечи.
— Да, — легко согласилась она. — Уж такая я добрая дура! Да, дура! Я еду к нему.
Я молчал, не отпуская ее. Ее плечи начали обмякать.
— Добрая дура с неизбывной надеждой, — подтвердила она, обмякая. Сила пальцев моих проникала в нее — я это ощущал всей своей шкурой.
— С неизбывной сексуальной надеждой, — наконец прошептала она. Ее тело стало покорным. Я знал, что уже победил, но мне было этого недостаточно.
Я расстегнул пряжку ремня.
Добрая дура… Что может быть лучше, чем добрая дура? Добрая дура — мечта обывателя. Зачарованно эта добрая дура наблюдала за тем, как я вытягивал из петель на брюках ремень. Ремень был широк, петли — малы, ремень заедало, но мне некуда было спешить.
— Платье тебе лучше было бы снять, — посоветовал я.
Не отрывал зачарованного, доброго взгляда от пряжки ремня (небольшая, пластмассовая, герб города Киева в рамке), дура с неизбывной сексуальной надеждой начала стаскивать через голову это тесное в талии, по широкое снизу летнее платье. Вот я увидел крутые белые бедра, повязанные желтыми трусиками, вот — несколько выпадающий, обширный живот, вот — висячие груди…
Не предупреждая, я с силой ударил.
Она завизжала. Она забыла вовремя расстегнуть ворот, и платье застряло. Руками она тянула вверх это тесное платье, голова ее была окутана голубоватой (с изнанки) материей, а я, видя беспомощность крупного тела и наслаждаясь этой беспомощностью, начал раз за разом наносить с умеренной силой удары, испытывая от этого все большее возбуждение. Полные ягодицы колыхались под моими ударами, пряжка ремня впечатывалась в молочно-белую кожу, я приходил в состояние, близкое к умопомешательству…
Читать дальше