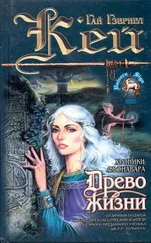— Может, твердо ему спать?
— Два мешка подстелил. Человеку и то удобно было бы. Хлеба с маслом не взял, на Петронеле кинулся…
Не изнеженность собаки волновала Балюлиса, а Петронеле.
— Кричала… разбудила вас, я-то слышал. Завсегда так, увидит что во сне и — ну вопить. Собачонки испугалась. Сроду трусиха. Всего боится: ох, гости нагрянут — не сваривши заранее, пирогов не испекши, чем кормить будем?… и скотины получше не заводи — не прокормим, обожрет!.. или вон дети — как бы в комсомол не вступили… беды не оберутся, как ты, отец, со своей формой стрелка, с винтовкой этой… А ведь когда что было!
Когда было, а не изгладилось и никогда не уйдет из памяти, как трясся он в Абелевой тележке, отворотив голову от яркого солнца. Казалось, и само светило помоями обдали, и над ним темнота человеческая надсмеялась, вознамерившись одним ударом его, Балюлиса, с ног сбить и, как барана перед стрижкой, по рукам-ногам связать. Хуже того, чтобы охолостить, словно норовистого жеребца, чтобы забыл ржать да скакать, чтобы обратился в такого же домоседа, как все они, Шакенасы, как Петронеле его, что от дома и на три шажка отойти не осмелится! Перед его глазами мотался повыщипанный местечковой ребятней куцый хвост клячи, дрожащими пальцами раздирал Балюлис жирную спинку сельди, ломал хрустящую булочку и не ощущал их вкуса. Весь мир — от небесных высей и до густой пыли проселка — провонял помоями. Даже на белого тонконогого жеребенка, резво носившегося по зяби, не поднял глаз, хотя Абель, стараясь развеять его хмурость, заливался, помахивая кнутиком:
— Конечно, другого такого коня, как у господина Балюлиса, не сыскать, но и этот, белошейка, как подрастет, летать будет, ой-ой, как будет летать!
— Не охолостят, так полетит, — горько усмехнулся Лауринас.
— Это так, — согласился Абель.
Лошадка его со стертой хомутом холкой едва тянула, тележку лениво бросало из стороны в сторону. Абель заворачивал то на один, то на другой придорожный хутор. Извините, господин Балюлис, несвежих-то булочек никто не купит, а мука взята в долг…
— Ну и конь у тебя… огонь! — упрекнул Лауринас хозяина, когда тот слишком, по его мнению, долго задержался в усадьбе побогаче — застекленные сени, два ряда туй, ветряной двигатель на мачте.
— Еще бы — чудо, не лошадь! За двадцать пять литов у живодера дохлятину сторговал. А ведь подлечил, поставил на ноги. Только зубов не вернешь. — Абель, как и его кобыла, тоже беззубый.
— Утешил, нечего сказать.
— Ах, господин Балюлис, никогда не бывает человеку так плохо, что не может быть еще хуже. Не знаю, есть ли кто там, — седобородый Абель ткнул кнутовищем в небесную высь, и его покрасневшие глаза вдруг засинели от сияющей голубизны неба, — но, пока человек жив, здесь вот, — он прижал кулак с кнутовищем к сердцу, — здесь что-то есть, что-то трепыхается… Человека можно унизить, растоптать, но здесь все равно будет что-то биться, подниматься вверх вместе с жаворонком… Но, дохлятина!
Это вот биение сердца, это стремление вверх и осквернили в Балюлисе. Представлялось, что жил им, дышал, а тут… Позабыл Лауринас, как вскипавшая кровь без всякой причины и раньше гнала из дому. На коня — и вперед, не разбирая дороги, не обязательно от Шакенасов удирая, от самого себя, вдруг разонравившегося. А теперь никуда не убежишь, хоть и порвал путы, ни в каких водах не отмоешься от позора, никакими мылами не ототрешь вонь тех помоев, часть собственного существа должен будешь оторвать, отрубить от себя, остатки в новую шкуру втиснуть, чтобы ничем старую не напоминала, надежно от новых унижений прикрывала.
Потому-то Лауринас вернулся домой не тогда, когда приплелся к Абелю тесть, согбенный, с печально повисшим длинным носом, пришел якобы за папиросными гильзами (втихомолку приторговывал куревом собственного изготовления), а на самом деле с ворохом векселей за пазухой: с этого дня — твои, зятек, все до одного — твои ! — и не тогда, когда, постанывая, босиком прибрела Петронеле, таща за руку Казюкаса, пала ничком на кухне у Абелене… Лежала и не осмеливалась поднять глаза на сидящего у стола мужа, дотронуться до его вздрагивающего колена — сам не замечал, что оно дрожит. А лицо ее без кровинки, белое, как вымоченный домашний сыр, в щелках глаз поблескивают две застывшие капельки. Такой будет, когда постареет, — тяжелая, выцветшая. Не дай бог так быстро состариться, не дай бог! Повернулся к Казюкасу — в узком вороте рубашки пульсирует жилка на тонкой шейке… Здесь, в этой цыплячьей шее, все его тепло, вся жизнь. Кто теперь защитит мальца от безжалостных тисков жизни? Лауринас кашлянул, как бы невзначай помогая сыну сглотнуть слюну, но постарался придавить жалость, словно жучка сапогом к полу. Приказал, чтобы встала, пусть, мол, поедят селедки с Абелевыми булочками и возвращаются домой.
Читать дальше
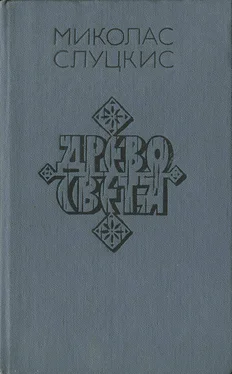

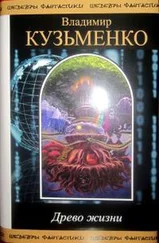
![Миколас Слуцкис - Волшебная чернильница [Повесть о необыкновенных приключениях и размышлениях Колобка и Колышка]](/books/33933/mikolas-sluckis-volshebnaya-chernilnica-povest-o-n-thumb.webp)