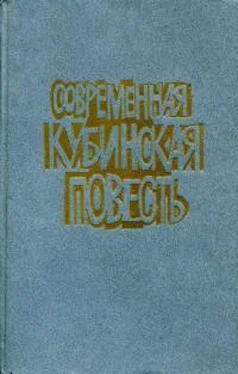МОРЕ
— Не случалось тебе терпеть бедствие на море? — спросил Гаспар у рыбака. Не то чтобы его это интересовало, просто молчание было томительным — отогнать бы хоть чем-нибудь неприятные мысли.
— Случалось, много лет назад. Был я тогда молодой, крепкий, хотелось жить. А в бедствие попал, когда плыл на яхте с женой хозяина. Она да я, одни мы были.
Гаспар подозрительно взглянул на старика — шутит, что ли? Или выдумывает байки, чтобы придать себе весу?
— Не верите? Но это, знаете ли, чистая правда. Только женщина да я были в той лодчонке.
— И муж не ревновал?
— Еще бы не ревновал! Уж конечно ревновал. Да ничего не мог поделать. Он мне за это платил, а случилось так, что погода испортилась, и нас унесло в море. Только через три дня нашли.
Тут вмешался верзила, почуяв, что в этой истории может быть что-то похабное.
— Ну, и славно вы развлекались, а? Уж там-то никто вам не мешал.
— Какое мешал. Все было хорошо, только женщину ту я потом больше не видел. Была она богатая, красивая, да со мной даже не попрощалась. Мне она нравилась, да она со мной даже не попрощалась.
Габриэль пробудился с чувством удивления — стояла тишина, которая показалась ему подготовкой к чему-то, предвестием набега еще более разрушительного, чем предыдущие; но, видимо, в ежедневной игре ребятишек наступил перерыв — какое-нибудь междуцарствие или что другое, — и прекратился обстрел дома камнями, галькой и кирпичами. Такое впечатление возникло, возможно, из-за того, что ему, напуганному атаками последних дней, хотелось смотреть на события менее драматично и думать, что это крошечное войско, при всем единстве и спаянности, не сумеет вывести его из равновесия — увы, не очень устойчивого, — его, надежно скрытого, удобно спрятавшегося затворника.
И вдруг, будто возникнув прямо из зарослей бурьяна, участники маленькой банды появились все разом — здесь голова, там рука, — и опрометью кинулись от них куры и кошки, спасаясь, не находя щель, куда бы юркнуть, в паническом ужасе вздымая вихри пыли и сухих листьев, сталкиваясь, подпрыгивая, кувыркаясь, падая и тут же вскакивая…
1958
— Что делать? — спросил Гарсиа.
— Экуменический вопрос, — сказал Марсиаль, который любил слова звучные и высокопарные, не очень-то заботясь о смысле.
— Почему мы всегда должны обращаться к Орбачу? — запротестовал Гарсиа. И добавил усталым голосом: — Не люблю я отвлеченных умствований.
Габриэль думал об участии женщины в его делах, о самоотверженном участии аптекаря (или «агента по продаже»), «Я этому человеку не доверяю», — сказал однажды товарищ из «Движения 26 июля». «Боишься?» — ответил ему Габриэль. А теперь он сам боялся. Эта комната была вроде мешка, в который засунули его тревогу и страх. Сюда не доходили ни слова, ни взгляды, он мог только воображать фасады зданий на улице, их стены в темных закоулках, стены, которые в не такой уж давний день, от града пуль, обрызгала кровь. Здесь свет едва брезжил, и сонную одурь сменяло состояние какой-то завороженности, приглушавшей страх и любопытство. Заточение, ожидание — вот и все.
— Орбач для нас человек очень нужный, — говорил Марсиаль. — Он человек думающий, он разбирается. Ты знаешь его главный тезис? Национальное тождество — это то, что есть в народе существенного и постоянного, иными словами, то, что отличает его от остальных, характерная черта нации. Понимаешь?
— Ну и что с того? Какая мне польза в данное время от подобных изысков? Нам сейчас одно нужно — уверенность!
— Да? Тогда ответь мне хотя бы вот на какой вопрос: разве нам как народу не присущи впечатлительность, нервность и разве это не недостатки, подобные отсутствию предвидения, перспективы и хронически несерьезному отношению к событиям?
— Не думаю, чтобы такие рассуждения могли нас избавить от сомнений, — возразил Гарсиа.
— Но это слова самого Орбача.
— И ты всерьез в них веришь? В болтовню о климате и об этническом составе… До сих пор веришь?
— Опровергнуть нелегко. Мы переживаем период, когда социальное и этническое равновесие нарушено. И бесспорно, у нас нет воли к созиданию. Необходимо направить силы…
— Слова, слова! — вздохнул Гарсиа.
«Повседневное подавление воли», — думал Габриэль. Ему, запертому в этой комнате в 1958 году, надо было вырваться из-под власти наваждения, подавить чувство ожидания, пресечь влияние мира, входящего в тебя через память, через воспоминания. Но миновал один день и наступал другой, и в тишине, минута за минутой, ожидание разрасталось как гигантский гриб. Тут могла бы сосредоточиться вся его жизнь, замкнуться в неком лабиринте, пределы которого он сам вряд ли сумел бы определить. Тут с ним были и мертвые: они-то знали, в каких недрах они покоятся, где они пали, какие корни их оплели, какая почва укрывает ныне. Где они? Что с ними произошло? И сам он — кто? Теперь у него даже нет настоящего. А будущее зависит от ожидания здесь — от долгих часов между появлениями женщины и порывами ветра, бросающего сухие листья в стекла закрытого окна.
Читать дальше