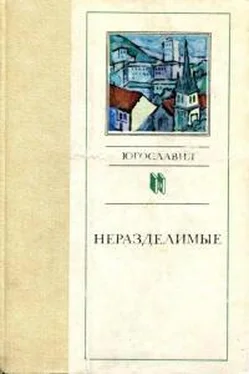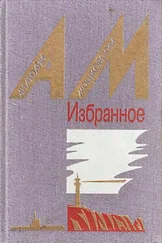— Лихой старикан.
Живем мы в одной комнате, и он, не желая никому мешать, все время сидел в углу на кровати с газетами в руках, которые, по-видимому, его мало интересовали, или, подперев ладонями щеки, смотрел на свои ноги. Утром пытался скрыть от моей жены пятна крови на подушке, а потом говорил мне с досадой:
— Опять испачкал подушку.
Изо рта у него, словно из подгоревшей кастрюли, шел сильный горьковатый запах, который, похоже, он и сам чувствовал и потому не садился с нами обедать и не подходил к моему сыну. Держась на расстоянии, он часами смотрел на него с улыбкой. А когда ребенок тянулся к нему ручонками, он ловко изворачивался, чтоб не брать его к себе.
В конце концов он придумал, что дома у него спешное дело. Когда придет вызов из больницы, я, мол, могу отбить ему телеграмму. После безуспешной попытки отговорить его, я посадил его в поезд с некоторым страхом, что, может быть, больше его не увижу.
Однако через несколько дней вызов из больницы пришел, и я снова отправляюсь на вокзал — на этот раз встречать его.
Мне было видно, как, проходя по вагону, он то поднимал голову, то опускал, словно бы заглядывая под полки. Вышел чуть ли не последний, растерянно оглядываясь назад.
Я спросил, что случилось.
Он смутился.
— Да знаешь, прошлый раз я ничего не привез, а сейчас вот взял петуха. Молодой, красивый, а уж вымахал, что твой индюк. Жена его в доме держала. Да в дороге я задремал ненароком, а когда очнулся, смотрю, — глаза его заблестели, — нет петуха. Украли!
Мы оба смеемся, а он, покачивая головой, смачно материт свой народ.
7
Назавтра его положили в больницу.
Больных там резали, облучали и вовсю следили, чтоб они не умирали у них на глазах. И тем не менее без сбоев не обходилось, и бывали эти сбои довольно часто.
Я навещал его.
— Видишь этих? — сказал он как-то, кивнув головой на больных. — Все они скоро отправятся к доктору Могиловичу.
— Не шути так, — говорю я. — У тебя еще жизнь впереди!
А дядя Станое улыбнулся своей доброжелательной, преданной, как у старой собаки, улыбкой:
— И я к нему…
Когда я приходил, он словно бы оживал. Бодро здоровался, брал меня под руку, знакомил с больными.
— Это мой племянник, — говорил он с некоторой гордостью. — Внук еще маленький, не ходит пока.
Мы гуляли по коридору.
— А маленький Пера воркует? — спрашивал он. — Воркует? Да? — И в ответ на какой-нибудь глупый родительский рассказ с удивлением добавлял: — Да ну! Что ты говоришь!
Потом мы садились на белую больничную скамейку. Он постепенно умолкал и, устало опустив голову на ладони, глубоко задумывался. Меж нами возникала стена.
Вдруг он вздрагивал, будто совершил что-то непристойное.
— Ступай. Повидались, поговорили. Ступай.
И чуть не прогонял меня прочь.
Иногда он не хотел вставать с кровати.
— Почему ты не встаешь? — спрашивал я в страхе.
— Не хочется, — отвечал он. — Так мне лучше.
Не без труда удавалось мне его поднять.
Однажды, пройдясь по длинному коридору, мы снова сели на скамью. И он снова опустил голову на ладони.
Надежды не было никакой, но я все еще не мог в это поверить.
— Не сдавайся, — глупо уговаривал я его. И улыбался, чтоб скрыть тревогу. — Держись. Перед тобой еще долгие годы. Болезнь как болезнь. Надо бороться.
А он, не поднимая головы, ответил:
— Жить не хочется. Лучше умереть.
Когда его выписали, ему было немного лучше. Однако доктор сказал:
— Болезнь эта совсем не отпустит. Но поживет…
И вот я снова смотрю, как он сидит в вагоне в своей нависшей над бровями меховой шапке и с опухолью под подбородком, которую прячет под шарфом. Улыбаясь, он в окно отвечает мне взглядом и слегка кивает головой. И, уезжая, приветно машет квадратной рукой с уже побелевшими пальцами, как бы желая сказать:
— Увидимся еще!
8
Ровно через двадцать дней после того как я посадил его в поезд, я тем же способом и в то же время еду туда же по весьма печальному и уже привычному поводу.
В теплом, удобном поезде, который, к удивлению, шел точно по расписанию, я с головой ушел в чтение газет, чтоб отвлечься от грустных мыслей и воспоминаний. Но стоило мне ступить на посыпанный щебенкой и пропитанный мазутом перрон, где меня тут же закрутил бешеный поморавский ветер, который не утихает по три недели кряду, с шумом бьется о старые здания, треплет столетние голые платаны и раскачивает хилые оранжевые фонари, как бы норовя сорвать их и смять станцию в лепешку, как я уже почувствовал себя там, куда держал путь.
Читать дальше