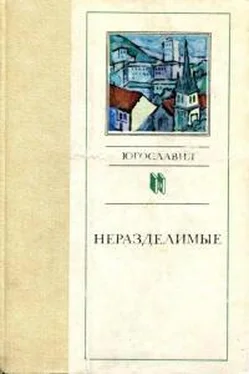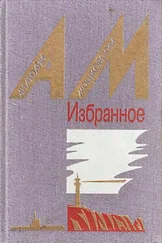— Есть у них мельница на паях с соседями, один мелет сегодня, другие — завтра, я знаю. И женщину знаю, и знаю, чья она и какая…
Потом снова появился унтер-офицер и с порога сказал матери:
— Можешь идти, но только домой. Нагружай свои мешки и ступай! И с сегодняшнего дня возьмись за ум. За свой дурной черногорский ум!
5
Вот так отпустили мать, а убитые остались, где и были, — на морозе и снегу. Тут они лежали еще целых два дня; приходили власти, сам окружной начальник приехал на санях; приезжал врач, чтобы «засвидетельствовать смерть» и установить причину смерти. Что дальше было с убитыми, некоторое время никто не знал. Крестьян с их постоянными заботами о куске хлеба и практическим подходом к событиям как будто это уже не так интересовало, как в первый день: когда речь шла о жизни и смерти, это их касалось и волновало, а сейчас люди убиты или удушены, а трупы — забота властей, пусть делают, что хотят. Позднее стало известно, однако, что власти тайно закопали мертвых комитов неведомо где, чтобы и могилы их никто не знал. А то, что их похоронили, подтвердили сами власти в напечатанном объявлении, расклеенном всюду, где только возможно: на телеграфных столбах, на ограде моста, на деревьях, на стенах школы, общины. Объявление оповещало, что в «результате инициативных действий и при всесторонней помощи народа» жандармский патруль ликвидировал опасную группу предателей и бунтовщиков; затем перечислялись имена убитых, написанные крупными буквами и расположенные одно под другим, указывались год рождения и место рождения — один действительно был из племени Белопавловичей, а двое из племени Ровацей. В конце объявления говорилось, что «убитые враги государства и народа» выступали за Италию и большевистскую Россию, за республику и сепаратизм, против присоединения Черногории к «матери Сербии», против короля, веры и отечества. Это и еще многое другое можно было узнать из объявления, а в начале фашистской оккупации отец объяснил мне еще некоторые обстоятельства случившегося в ущелье. Солдаты и жандармы со всем своим оружием, всей своей пальбой ничего не смогли сделать трем комитам в пещере, никого не убили, не запугали громом выстрелов и не вынудили сдаться. И хотя были хорошо осведомлены о способе проникновения в убежище, даже не попытались сунуться в лаз. На другой день они развалили крестьянский стог и натащили сена к входу в пещеру. Комиты стреляли, бросали гранаты, но из лаза, откуда мог стрелять только один человек, да и то только прямо или чуть вправо и влево, ничего нельзя было добиться. Но и атакующие многого не добились бы с этим сеном, которое натаскали к лазу и подожгли, если бы не дознались еще об одном входе, через который когда-то вытекала из пещеры вода. Этот ход, тесный и извилистый, тянулся вверх и наружу выходил в промоину возле речки. Жандармы и солдаты расширили его и натаскали к нему сена — с этой стороны они и удушили комитов дымом. А донес на комитов в пещере и показал оба выхода в нее наш односельчанин Груя. Этот Груя был состоятельный человек, австрийских жандармов встречал гостеприимно, и они повадились угощаться его ракией и цицварой [45] Цицвара — национальное блюдо из муки, яиц и брынзы.
. Год спустя замужняя дочь Груи, жившая в доме отца, так как ее муж был комита, вышла второй раз замуж за вахмистра из Ушча, а позже и отец мало-помалу стал участвовать в организуемых оккупантами облавах, в прочесываниях леса и розысках пещер. Пещера на Висиборе осталась ему неизвестной, а когда об уцелевших комитах после войны опять пошли слухи, он, чувствуя себя словно обманутым, несколько раз отправлялся на Висибор. Он нашел пещеру и хорошенько со всех сторон ее изучил — в этих делах он был мастак, вдобавок ему казалось, что тем самым он как бы ей отомстил.
6
Но эта история не закончилась убиением на Висиборе и тайным захоронением убитых.
На пятый день после случившегося в пещере поздно вечером кто-то постучал к нам в дверь. Мы только что отужинали, и мать убирала со стола. Крестьяне в нашем краю никогда ночью сразу не отпирали дверь — помолчат какое-то время, подождут, не повторится ли стук, и прикинут, что за стук и кто бы это мог быть. И отец с матерью тоже помолчали и подождали. Но в дверь снова застучали — стучали то ли нерешительно, то ли рукой, закоченевшей от холода. Отец взял лучину, зажег ее от керосиновой коптилки и пошел к дверям. Мать выхватила у него из рук лучину и протиснулась вперед, но он не пустил ее одну. Минуту-две спустя (мне же показалось, что отец и мать очень долго молчали по эту сторону дверей!) раздался голос матери: «Кто там?» Ответа я не слышал, но загремел запор, и тут же перед отцом, открывшим дверь, и матерью, светившей сзади лучиной, на пороге появился высокий старик с клюкой и малорослый худенький мальчик. Порог у нас был очень высокий, и мне показалось, что они оба с трудом перешагнули через него. То ли старик правой рукой опирался на плечо мальчика, то ли таким образом подбадривал и оберегал мальчика, не знаю, но и тогда и потом, когда я их дважды встречал в селе, они так и ходили: рядом, рука старика охватывала сзади шею мальчика и лежала на его правом плече, а сам он низко склонялся, желая защитить мальчика и приблизить к нему свою голову и плечи. Старик, и это тоже сразу бросалось в глаза, был необыкновенно худой и костистый, но если лучше приглядеться к его худобе, видно было, что он не столько стар, сколько изможден и измучен, даже усы и волосы на голове были скорее белесыми, чем седыми. Что на нем было из одежды, я не помню, но все время мне кажется, что он был одет в холщовые вылинявшие штаны и рубаху — лохмотья и кости! И мальчик, мне кажется, имел на себе что-то подобное. Но это же, разумеется, немыслимо, ведь стояли сильные морозы, и на улице за один или два часа они бы окоченели до смерти. Но это зрительное представление об их одежде красноречиво свидетельствует о том, как бедно они были одеты. И так же как старик, когда к нему внимательнее приглядишься, не казался таким старым, как на первый взгляд, так и мальчик, когда пристальнее всмотришься в его лицо, выглядел гораздо старше — поневоле состарился.
Читать дальше