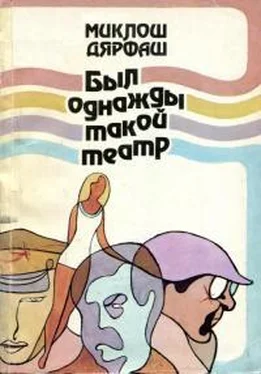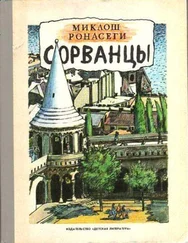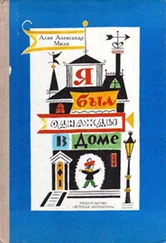— А потом я так ничего и не нашел.
— Попробуйте еще раз! — Пастор вскочил со стула. — Тордаи сто раз начинал сначала…
— Знаю.
— Вы решились?
— Да.
— Согласны к нам присоединиться?
— Да, наверное.
Пастор с благодарностью взглянул на господина Шулека, который корчил самые удивительные гримасы, изо всех сил пытаясь скрыть выступившие на глазах слезы. Он стеснялся Дюлы и скрывал от него свою слабость. Молодой актер тем временем продолжал:
— Я должен предупредить вас, что наша затея далеко не всем по душе. Наверняка найдутся такие, что будут вставлять палки в колеса. Актерская гильдия, к примеру, или правые газеты… Я хочу, чтоб вы знали: во всем этом есть определенный риск…
— Я вас понял. Вы хотите сказать, что ваша затея — не для клоунов…
— Ну да.
Неожиданно Торш протянул молодому человеку руку.
— Идите. Сообщите мне, когда и где начнем репетировать. Всего хорошего, сынок.
На этот раз Пастор дал себя выпроводить. Господин Шулек был не прочь остаться, но Дюла выставил и его. Он был очень взволнован и хотел побыть в одиночестве. Ему было страшно, что сердце подведет его снова. Достав из жилетного кармана жестяную коробочку, он глотнул две таблетки нитроглицерина. Никогда еще приступ так не страшил его. Прикрыв глаза, он вытянулся на диване и постепенно успокоился.
Дюла сам не мог взять в толк, почему так радуется этому визиту, ведь за последние годы он как-то отрешился от всего. Прощаясь с Аннушкой, он знал, что отныне единственным смыслом его жизни становится искусство. Аннушка ушла, но у него оставался театр, настоящий театр. Три дня спустя с ним случился припадок, помешавший ему сыграть Люцифера, — смерть подмигнула, давая понять, что артистом ему тоже не быть. Сколько бы он ни вспоминал тот день, обед с Гардони, его всегда мучила мысль, что тогда ему следовало умереть. Он злился на бестолковую старуху с косой, не доделавшую своего дела. Вся его последующая жизнь была хуже смерти. После болезни у него не было ни малейшего желания возвращаться на сцену. Он сводил счеты с собственной судьбой, думая, что начинать сначала поздно. Раньше надо было, куда как раньше. А теперь сердце не даст ему стать настоящим артистом. Он хорошо усвоил маленькое послесловие врачей ко всем утешительным речам: вам надо беречься. Потому он и соглашался на идиотские, ни к чему не обязывающие роли. Они развлекали его, как карты — усталого человека. Со временем он привык к этому пустословию, смирился, как когда-то, много лет назад, когда после Чехова снова вернулся к пьесам Акли. Наконец он немного окреп и почувствовал в себе силы для более серьезных вещей — тут началась война, и все пошло кувырком, казалось, навеки утратив всякий смысл. Дюла видел, что настоящее искусство никого не интересует. Людям нужны пестрые безделушки, которых они сами не принимают всерьез. Жизнь, настоящая жизнь давно миновала. С тех пор как началась война, все человечество живет примерно в том же состоянии, что и он. Смерть проникла в сердца. Остальное — вопрос времени, и только…
Однако сегодняшний визит молодого режиссера спутал все его мысли. Тиборц в Народном парке… это было так неожиданно, что заставило его удивиться. Вдруг ожило то самое, давно забытое чувство, которое он испытал в детстве, впервые попав в театр. Ему ужасно хотелось приступить к работе как можно скорее. Не вставая, он снял с полки «Банк Бана» и стал читать.
Шесть недель спустя состоялся первый спектакль в Народном парке. Публики набилось столько, что в зрительном зале нельзя было пошевелиться. Если бы зрители разом вздохнули, деревянное строение развалилось бы на части. «Банк Бана» ставил Пастор, он же собственноручно оборудовал небольшую сцену. Как только поднялся занавес, в зрительном зале установилась благоговейная тишина. Снаружи доносились монотонные звуки шарманки, скрип карусели, хлопки духовых ружей, визг девиц, катавшихся на «американских горках», но публика ничего не замечала, всецело поглощенная поединком Отто и Бибераха.
Дюла стоял за кулисами, слушая удивительную тишину, словно колпаком накрывшую зрительный зал. Он волновался не меньше, чем восемь лет назад в Сегеде, но в этом волнении не было страха. Ему не терпелось поскорее выйти на сцену.
Наконец пришел черед Тиборца. Дюла вышел из-за кулис и тут же ощутил горячую волну, поднимавшуюся от зрительного зала. На деревянных скамейках сидели небритые мужчины, без пиджаков, с засученными рукавами. Суровые лица не отрываясь смотрели на сцену. Женщины были в фартуках и платках — в том виде, в котором застало их потрясающее известие: в Народный парк приехал театр, будут выступать разные знаменитости. Слева и справа стояло несколько любопытствующих актеров и журналистов, а также двое-трое детективов. Гробовая тишина в зале и благоговейное внимание публики глубоко потрясли актеров, занятых в спектакле.
Читать дальше