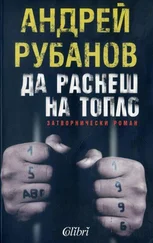Но даже убедившись, что все закрыто, что решетки крепки, а сейфы герметичны, Андрюха не сможет ночью уснуть спокойно. Вечером жена устроит скандал. Упрекнет супруга в том, что он уделяет семье слишком мало времени. Это будет стресс, и Андрюха крепко выпьет. И погрузится в сон, психуя и жалуясь самому себе, что в семье у него – как в тюрьме, и на работе тоже.
Где же моя свобода? Как и когда я ее потерял? Мучаясь такими вопросами, озадаченный и пьяный, Андрюха уснет.
А в шесть часов утра пропищит специальный будильник – пейджер. На изумрудном дисплее появится надпись: «Деньги не спят». Это любимая фраза Андрюхи. Цитата из голливудского фильма «Уолл-стрит». Мрачный, с тяжелой головой, Андрюха-нувориш проснется, умоет лицо, употребит сильную дозу кофеина (две чашки подряд, вареного, свежемолотого, на минеральной воде, с добавлением соли, с таблеткой аспирина). Это придаст Андрюхе если не бодрость и тонус, то хотя бы необходимую взвинченность. Затем он поспешит делать деньги.
…Газуя со страшной силой, Андрюха-нувориш пролетает мимо, не посмотрев в мою сторону. В принципе так и должно быть: ведь он – человек из прошлого.
3
Что характерно, я тоже еду не домой, а в офис. Там меня ждет мой нынешний босс. Семьи у него нет, и он любит задерживаться на работе допоздна.
Кабинет босса отделан зелеными пластиковыми панелями – примерно такими же, как в приемном боксе Лефортовского изолятора. Я ощущаю легкий приступ дежавю.
Подкожный слой босса внушает крайнюю степень уважения. Сало мощно наросло на его плечах, на боках, на заду и бедрах – везде, где можно и нельзя. Пальцы обратились в пухлые сардельки. Щеки формой и размером схожи с ракетками для пинг-понга. Исполинское кресло жалобно стонет под тяжестью огромного тела.
Справа от кресла, на расстоянии вытянутой руки, стоит сейф – вместительный, ярко-синий, с никелированными ручками ящик. Слева, тоже вблизи, помещен холодильник. Толстяк, по мере надобности, поворачивается то вправо – к деньгам, то влево – к продуктам питания. Молча приблизившись, я извлекаю из кармана деньги и кладу их на стол перед боссом.
– Это что? – спрашивает он с подозрением.
– Здесь пятьсот долларов. Мы в расчете.
У Толстяка багровое, испитое лицо старого клиента алкогольной тюрьмы. Он с подозрением шарит по мне глазами.
– Не может быть!
– Десять месяцев, – с наслаждением произношу я, – по триста пятьдесят долларов в месяц – это три тысячи пятьсот. Вот еще пятьсот. Итого четыре. В расчете, Вадим! В расчете!
Толстяк берет со стола зеленые бумажки, бережно перегибает пополам, сует в нагрудный карман.
– Откуда у тебя взялись деньги? – с подозрением интересуется он. – Краску, небось, воровал?
Я выдерживаю паузу и задаю встречный вопрос:
– У тебя бухгалтерия есть?
– Конечно.
– И как? Дебет с кредитом сходится?
– Вроде да.
– Значит, Вадим, никто у тебя ничего не воровал.
– Логично… Выходит, твой долг погашен?
– Именно.
– Все четыре тысячи?
– Ага.
Я вздыхаю.
– Чего? – добродушно спрашивает мой бывший сокамерник.
– Когда-то я зарабатывал такие деньги за один день. Толстяк вяло отмахивает рукой.
– Это дело прошлое…
Я смиренно киваю; здесь не возразишь; с тех времен, когда я за день делал по четыре тысячи долларов, прошло семь лет. Те деньги, быстрые и большие, развратили меня. Именно на это намекал мой собеседник.
– Кстати, – продолжил он негромко, – прикрой-ка дверь, пожалуйста…
Я послушно выполняю просьбу. Сегодня я погасил весь свой долг и намерен уволиться к чертовой матери из фирмы Толстяка. Теперь он не может отдавать мне распоряжения, а только просить.
Повернувшись к холодильнику, он достает бутылку яда, затем лезет в сейф и кладет передо мной бумаги.
– Распишись вот тут, – еще тише просит босс. – Только не за себя.
Без лишних слов я беру протянутую авторучку и изображаю на квитанции к приходному ордеру замысловатый вензель.
– Мастер ты, – говорит Толстый.
Я морщусь.
– Все равно твои бумаги подписаны одной рукой. Это видно. Невооруженным глазом.
– А кто будет смотреть в мои бумажки вооруженным глазом? – Вадим подсовывает вторую квитанцию. – Теперь еще здесь что-нибудь нарисуй. Другим почерком.
– Не выйдет, – авторитетно возражаю я. – Почерк нельзя изменить. Я тренировался почти три года. Никакого эффекта.
– Вот видишь, – снисходительно усмехается Толстяк. – А ведь тогда, в камере, мы – вдвоем! – никак не могли тебя убедить, что твои занятия бесполезны…
Читать дальше
![Андрей Рубанов Сажайте, и вырастет [litres] обложка книги](/books/401249/andrej-rubanov-sazhajte-i-vyrastet-litres-cover.webp)