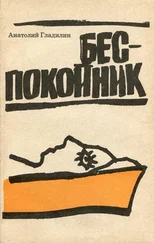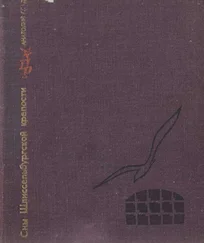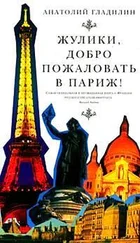— Ну что, бастуем? Между прочим, советским законодательством забастовки запрещены.
На нарах поднялись головы. Кое-кто сел.
— Вы жили в Париже? — спросили меня из левого угла.
— Да, жил. Угадали по акценту? Давайте выкладывайте ваши претензии.
Барак пришел в движение. Со всех сторон посыпались жалобы: завышенные нормы на лесоповале, недостаточное питание; в ларьке ничего не купишь, на окнах барака нет накомарников, не получаем писем, конвоиры грубы — бьют провинившихся, в медпункте нехватка лекарств…
Я обещал, что накомарники повесят, лекарства завезут, солдатам наружной охраны сделают внушение, с письмами разберемся, а в остальном, дорогие господа, таков порядок. К вам еще терпимо относятся. Если бы попытались бастовать заключенные в русском бараке — их давно сволокли бы в карцер.
— Лучше подохнуть, чем так жить, — сказал худой, обросший щетиной человек на ближайших нарах.
Я вгляделся в черты его лица.
— Марк Хедлер?
Человек встрепенулся.
— Марк Хедлер, вы противоречите самому себе. Вы же когда-то утверждали: «лучше быть красным, чем мертвым». Вот теперь вы красный и испытываете на собственной шкуре закон социальной справедливости. Наконец-то у вас и у ваших товарищей равные права и обязанности.
— Мы не за такой социализм боролись, — глухо ответил Хедлер.
— А другого социализма не бывает. Социализм один для всех. Просто вы оказались под колесами Истории. Такова жизнь. Вы же сами говорили, что ход Истории неумолим. Если будете сопротивляться — История вас раздавит. Поймите, я хочу, чтобы вы все выжили. Перезимуете эту зиму, а там, глядишь, срежут срок, выпустят на вольное поселение.
— Во Францию? — насмешливо спросили из правого угла.
Я пожал плечами.
— Боюсь, что Франции ни вам, ни мне не видать. Впрочем, во Франции тоже усиленно строится социализм. Правда, климат получше. Короче, мой вам совет: кончайте голодовку и забастовку. Приступайте к работе. Свои обещания выполню. Здесь, как гласит русская пословица, «закон — тайга, медведь хозяин». И по телевидению ваши подвиги никто не покажет.
— Ну что? — спросил меня начальник лагеря, когда я вернулся в караулку. — Кончили бузить французы?
— Совещаются, — сказал я, — голосуют. Такая у них традиция. И вообще, надо бы помягче с ними. Среди них есть люди, которые в свое время сделали для нас немало полезного.
— Известно, — буркнул начальник. — Фашистов давно расстреляли. Только у меня план горит. Кровь из носа — а сдавай положенные кубометры древесины. Мне эти французы стоят поперек горла. Завалю план — с меня стружку снимут.
Из окон французского барака донеслось пение.
— Смотри, — поскреб свой затылок караульный солдат — враги народа, а вроде бы революционную песню поют Вроде бы «Марсельезу».
— У нас одна революционная песня, — рявкнул начальник лагеря, — Гимн Советского Союза. А ну, скажи слова — «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки великая Русь…» — без запинки отпарировал караульный.
— То-то! — оборвал начальник и трусцой поспешил к французскому бараку.
— Волынка с этими иностранцами, маята, — вздохнул караульный. — Я уж чайник вскипятил, заварку приготовил — опять сейчас вас подымут по тревоге, барак из брандспойтов поливать. И почему гады-французы не дают людям спокойно почифирить?..
Это время, середину 50-х и начало 60-х, потом назовут «оттепелью» и «глотком свободы». Переполненные залы поэтических вечеров, журнал «Юность», идущий нарасхват, имена любимых поэтов и прозаиков. В прозаиках — В. Аксенов, А. Гладилин, А. Кузнецов, В. Войнович, Г. Владимов… Любимцы, кумиры 15-25-летних, «яростных, непокорных, презревших грошевой уют»: В их героев влюблялись, орудуя их ироничными тирадами, как рапирами, вели разговоры и споры, их язык становился метой: знаешь — значит, свой.
А. Гладилин (1935) был самым молодым из них — между школой и Литературным институтом лишь год работы. В пародии на него говорилось, что он не знает жизни, потому что сразу же «Толик сел за столик». Его повести «Хроника Времен Виктора Подгурского», «Дым в глаза», «Вечная командировка», «История одной компании» были, возможно, наивными, но свежими и чистыми: в литературу входило новое поколение, свободное от рабства в мыслях, от подсюсюкиванья, острое на язык, романтическое, верящее в идеалы и в благородство любого, кто взял в руки Книгу.
Глоток свободы оказался слишком коротким, горло сдавили так, что перехватило дыхание. «Молодежная проза» так их называли в те годы — вся очутилась за полосатым пограничным столбом. Гладилин уехал в 1976-м. Уезжая, знал, что лишается самого дорогого — читателя. Но скажите — как жить не дыша?
Читать дальше